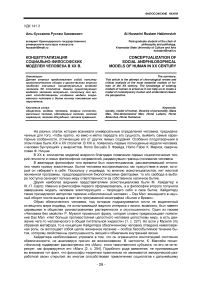Концептуализация социально-философских моделей человека в XX в
Автор: Аль-Хуссаини Рустам Хакимович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой попытку хронологического обзора и критического анализа наиболее значимых концептуальных моделей человека XX столетия. Знание существующих моделей человека актуально, поскольку оно может способствовать созданию модели современного человека и более ясному пониманию его перспектив.
Общество, модель человека, теории личности, массовый человек, одномерный человек, человек играющий, человек абсурдный, человек гуманный
Короткий адрес: https://sciup.org/14933335
IDR: 14933335 | УДК: 141.3
Текст научной статьи Концептуализация социально-философских моделей человека в XX в
На разных этапах истории возникали универсальные определения человека, предназначенные для того, чтобы кратко, но емко и метко передать его сущность, выявить самые характерные особенности, отличающие его от других живых созданий. Особенно плодотворными в этом плане были XIX и XX столетия. В XIX в. появились первые полноценные модели человека: «человек бунтующий» у анархистов, Homo Sexualis З. Фрейда, Homo Faber К. Маркса, сверхчеловек Ф. Ницше.
В XX в. количество моделей возросло благодаря появлению первых социологических теорий личности и новых философских направлений, раздвинувших границы понимания человека.
В авангарде философии того времени был экзистенциализм, рассматривавший онтологию через призму экзистенции. Бытие человека воспринималось как присутствие в мире, который он «вбирает» в себя. Поскольку у индивида, по мнению экзистенциалистов, нет жесткой жизненной программы, предопределенной биологическими факторами, то его свобода в выборе поступка означает полную меру ответственности за собственное наличное бытие.
Двумя наиболее видными представителями экзистенциализма были М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр. Именно в философии первого сформировалась, а в философии второго получила завершение модель человека экзистирующего – творящего себя и свое бытие. Хайдеггеру также принадлежит авторство термина «обезличенный человек» – Das Man, вошедшего в научный оборот после выхода в свет его программной монографии «Бытие и Время».
Образ обезличенного человека, под которым подразумевался почти не выделенный из вещного мира индивид, не испытывающий жадного интереса к жизни, возможно, был навеян царившими в обществе умонастроениями растерянности и опустошенности. Один из героев «Человека без свойств» Р. Музиля произносит фразу, которая словно предвосхищает появление Das Man: «Нет больше противостояния целостного человека целостному миру, а есть движение чего-то человеческого в общей питательной жидкости» [1, с. 227]. Но если у Музиля это образная метафора, то в концепции Хайдеггера обезличенному человеку отведена немаловажная роль: он воплощает собой целое жизненное явление – особое бессобытийное течение бытия, которому свойственны приглушенность эмоций и обмеление внутренней жизни.
Хайдеггера необоснованно упрекали в том, что он ограничился констатацией состояния обезличенности, не анализируя причин ее возникновения. В частности, К. Мангейм писал: «Философ подвергает рассмотрению это «Man», этого таинственного субъекта, но его не интересует, как формируется это «Man» [2, с. 294]. Подобного рода заявления, не принимающие во внимание тот факт, что философы-теоретики практически не занимаются эмпирической разработкой своих открытий, во многом способствовал привлечению социологов к дальнейшему исследованию проблемы обезличенности индивида, его ухода от социально активного состояния к пассивному дрейфу по поверхности бытия.
Развивая положения экзистенциализма, Сартр поставил в центр своей концепции сконцентрировавшуюся на абсолютной свободе личность и создал модель человека, который свободен до одиночества, до «обреченности на свободу» [3, c. 113]. Образ подобного индивида превалировал на начальном этапе философии мыслителя, но в зрелый период его мировоззрение претерпело существенные изменения: свобода перестала быть изолированностью и прочно сплелась с ответственностью за свой выбор. Эта модель стала воплощением морали действия и ответственности.
В противоположность Сартру нидерландский историк и философ Й. Хейзинга выделил одну присущую людям черту и сделал ее фокусом детального, обширного по охвату исторического материала исследования, опубликованного под названием «Homo Ludens» – человек играющий. Он исследовал игру как неотъемлемую часть человеческой культуры и формирующий человека фактор потому, что в отличие от почти всех абстрактных понятий она точно присутствует в бытии. Хотя его теория получила признание и до сих пор сохраняет свою актуальность, она не привела к созданию модели человека. По той очевидной причине, что игра также свойственна высокоразвитым животным и не может считаться уникальным человеческим свойством.
Тем не менее Хейзинга внес посильную лепту в создание обобщенного собирательного образа человека, сузив данную задачу до характеристики своего современника. В его публикациях дан сжатый, но глубокий и проницательный анализ состояния современных ему общественных институтов культуры и человека, и провидчески обозначены основные проблемы последующего периода истории. Содержание многих работ философа предвосхитило выводы современных исследователей, а созданный им термин «пуерилизм» (от лат. puer – дитя), подразумевающий моральную и интеллектуальную незрелость, стал непосредственным предтечей введенного Г. Маркузе понятия «одномерность». Хейзинга четко указал симптомы поражения общественного организма и сознания личности на раннем этапе формирования постиндустриального общества: «Бесчисленное множество… людей культивирует неизменно ребячливое отношение к жизни… Почву для этого подготавливает всеобщий упадок способности суждения и критической потребности. Масса чувствует себя просто замечательно в состоянии полудоб-ровольного оглупления» [4, с. 469]. В его публикациях, равно как и в работах других авторов, остро поставлена проблема изменения сознания человека в процессе массовизации культуры, под воздействием которой складывался феномен массового человека – «Mass Man».
У этой условной модели не было ни конкретного автора, хотя уже в «Восстании масс» Х. Ортега-и-Гассет активно употреблял этот термин, ни привязки к определенному философскому направлению. Она формировалась общими усилиями мыслителей XIX и XX столетий по мере изучения и осознания необратимости происходящих социокультурных и культурноантропологических трансформаций [5, с. 100].
Начиная с посвященных исследованию взаимоотношений личности и массы работ Г. Лебона, З. Фрейда, Г. Тарда и других западных и отечественных авторов вплоть до наших дней, образ массового человека дополнялся, конкретизировался и обобщался, пока не обрел относительно завершенный облик. К выявленным еще в начале XX столетия характеристикам человека массы, составляющим длинный перечень «важнейших недугов нынешней эпохи» [6, с. 473], современные эксперты добавили свойственные высокотехнологическому XXI в. духовную опустошенность и пресыщенность благами, фрагментарность сознания, деградацию способности к оценочным и критическим суждениям, пассивность. К. Юнг, выступая против «неизбежного растворения в массе» [7, с. 67], с горечью констатировал готовность человека делегировать свои свободу и ответственность коллективу в обмен на «удовольствие и удовлетворение в той форме, в какой их воспринимает толпа» [8, с. 66], порождая синдром, который Э. Фромм назвал «бегством от свободы».
В середине прошлого века с несущественным временным разрывом в работах известного французского литератора и философа А. Камю и одного из ведущих теоретиков франкфуртской школы Г. Маркузе были представлены две новых модели человека: «Homo Absurdus» – человек абсурдный и «One-demensional man» – одномерный человек. Эти модели, отражавшие различные мировоззрения, объединяла общая критическая тенденция – показывать несовершенного человека в несовершенном мире.
Человек абсурда Камю существовал в «безымянном людском множестве… со своим бунтом и ясным видением вещей» [9, с. 63]. Внутренний конфликт личности, воспринимающей собственное бытие как абсурд, не находящей поддержки у Бога в силу своего неверия, толкал ее на изначально бессмысленный и бесплодный бунт, который был не средством борьбы, а способом неприятия действительности.
В острой философской дискуссии Сартр обвинял Камю в непоследовательности и противоречивости его модели человека, чей образ приобрел демонически романтическое звучание, а бунт выглядел надуманным и идеальным. Еще более жесткая оценка была дана человеку абсурда в «Этике любви и метафизике своеволия» одним из ведущих отечественных социологов Ю.Н. Давыдовым, осуществившим всесторонний анализ данной модели. Сравнивая отношение к бытию и добровольному уходу из него человека абсурда и персонажей из «Бесов» и «Дневника писателя» Достоевского, Давыдов справедливо отметил их принципиальное отличие: Кириллов обрывает свою жизнь потому, что не намерен мириться с абсурдностью бытия, тогда как герой Камю «видит свою особую доблесть в том, чтобы жить с сознанием абсурдности жизни, не только не кончая с собой, а, напротив, даже извлекая преимущества из сложившейся ситуации» [10, с. 485], самоутверждаясь за счет людей, над которыми он чувствует свое превосходство. Ясно, что созданная Камю модель человека, отмеченного печатью низменности и морального разложения, не отвечает существующим нравственным критериям.
Несмотря на спорность взглядов и эклектичность концепции Маркузе, его модель одномерного человека, наличие которой в современном ему социуме он утверждал в одноименной монографии, вызывает интуитивное ощущение достоверности. В подобном человеке не просто сосредоточены качества, обусловившие его одномерность, в нем укоренена убежденность в естественности такого состояния в силу утраты способности к критическому осмыслению окружающей действительности и своего бытия в ней.
Убежденный фрейдо-марксист и сторонник левых взглядов, Маркузе был склонен винить общественную систему в формировании ущербного сознания и инфантильности индивида. Но и он не мог не признать, что определенную долю ответственности за собственное состояние ума и духа несет сам человек. Обвиняя героя своей концепции в том, что ценой свободы обеспечил свое благополучие в управляющем им Государстве Благоденствия, Маркузе саркастически вопрошал: «Если это управление обеспечивает наличие товаров и услуг, которые приносят индивидам удовлетворение, граничащее со счастьем, зачем им домогаться иных институтов для иного способа производства иных товаров и услуг? И если переформирование индивидов настолько глубоко, что в число товаров, несущих удовлетворение, входят также мысли, чувства, стремление, зачем же им хотеть мыслить, чувствовать и фантазировать самостоятельно? [11, с. 79]. В доказательство правильности своих идей Маркузе проанализировал скрытые механизмы изменения сознания, применяемые, по его мнению, с целью формирования особого типа легко манипулируемой личности, духовные запросы которой не простираются далее очерченного массовой культурой круга ценностей, идей, идеалов.
Незадолго до выхода в свет «Одномерного человека» в ряде публикаций французского философа Г. Марселя была изложена собственная концепция, в которой он напоминал о большом значении религии, чьи функции в современном обществе не восполнены. Именно с секуляризацией он связывал деформирующий личность упадок нравственности и вытеснение морали сознательного самоограничения принципами безудержного потребления. Базисным компонентом его концепции и фактором человеческого существования была широко трактуемая им «созидательная творческая сила» [12, с. 472], которая, по убеждению Марселя, служила личностно образующей основой, побуждающей индивида к наполненному существованию и отличающей созидающего человека от массы. Опасения Марселя по поводу происходящих в социуме изменений разделял философ и публицист Р. Гвардини, отмечавший, что «массовый человек постепенно вытесняет человека-личность» [13, с. 474], но веривший в духовное возрождение человечества.
Ни Марсель, ни Гвардини не ставили целью создание новой модели человека, но, возможно, были излишне экспрессивны и категоричны в оценках человека массы. Это позволило отечественным авторам, даже тем, чей авторитет в науке непререкаем, усомниться в гуманистической направленности их концепций и подвергнуть критике «узость марселевской «модели» личности, условием становления которой является творчество, и только творчество» [14, с. 83]. Не существует совершенных концепций человека. В любой из них можно обнаружить уязвимые стороны, особенно в тех, которым свойственна полемическая заостренность. Несмотря на спорность отдельных выводов, анализ человека массы в публикациях Марселя и Гвардини был вполне объективным и не являлся его преднамеренной дискредитацией.
В монографии Ф. Мюрэ «После Истории» представлено собственное видение проблемы и образа современного человека, охарактеризованного как Homo Festivus – человек развлекающийся. По мнению Мюрэ, поверхностный зрелищный характер массовой культуры, предлагающей бесконечные развлечения, способствует созданию особого эфемерного «гиперфестивно-го» стиля жизни, исключающего возможность глубокого осмысления бытия и обуславливающего «исчезновение реального мира и конкретного человека» [15, с. 229]. В качестве наиболее характерных для данной модели человека черт Мюрэ выделил «убого массовую гордость», самоутверждение, «стадное самопрославление, планетарный нарциссизм», псевдооппозиционность, инфантильность. Несмотря на четыре десятилетия, разделяющих концепции Маркузе и Мюрэ, необходимо отметить ряд совпадений во взглядах их авторов на основные рычаги нивелирования личности: утрата критического мышления, упрощение языкового дискурса, стирание дифференциации между индивидами, позитивизм, манипулирование сознанием. В Homo Festivus налицо признаки этих механизмов. Но есть и различия, не позволяющие отнести его к более поздней разновидности массового или одномерного человека. В этой модели человека изменены моральные нормы, допускающие то, что прежде считалось безнравственным. На авансцену его частной жизни под прикрытием толерантности выдвинулись крайние формы гедонизма и эротики. Homo Festivus не просто предпочитает не нарушающую его сомнамбулического духовного состояния эрзацкультуру, он сознательно приспосабливает литературу и историю под свой культурный уровень, фальсифицируя их содержание. И, наконец, он нетерпим ко всему, что не вписывается в его представления. Поэтому, в отличие от Маркузе, сочувствовавшего своему герою, в котором он видел жертву репрессивного общества, Мюрэ относится с презрением к Homo Festivus.
Появившиеся в недавних публикациях некоторых западных авторов модели человека информационного общества выглядят столь же нереально, как прогнозируемая Ю.Г. Волковым утопическая модель Homo Humanus – человека гуманного. Они отражают полярные точки зрения, первая из которых низводит рядовых людей до уровня «неоднородного низшего класса, который объединяет только низкий статус и увеличивающуюся беспомощность» [16, с. 144], тогда как другая необоснованно видит в человеке неиссякаемый источник возможностей для самосовершенствования.
Продолжая гуманистическую традицию ветви русского космизма, Ю.Г. Волков предлагает оптимистический сценарий духовно-физической эволюции человека на основе тотальной трансформации психики индивида, осуществляемой посредством синтеза новейших технологий и древних религиозно мистических традиций. В модели Волкова «человек постиндустриальной цивилизации с его многомерным миром репрезентирует сжатую в рамках конкретного индивидуума Вселенную» [17, с. 152]. Однако, помня о том, что последнее, что меняется в людях – менталитет, приходится признать несбыточность данной модели даже в отдаленном будущем.
Очерченный в публикациях Иванова образ можно считать разновидностью человека, чей набросок присутствует в работах многих западных футурологов с поправкой на изменившиеся исторические условия и национальный менталитет. Квинтэссенцией подобных исследований была монография Ф. Фукуямы «Конец истории и последний человек». В ней на основе критического анализа футурологических проектов автор «вывел формулу» человека будущего, живущего в экономически и социально благополучном безопасном толерантном либеральном обществе с генеалогией, восходящей «к самосознанию рабов» [18, с. 393]. Причину невольной антипатии к этому существу Фукуяма видит в застое социальной жизни, которая, обеспечивая всем необходимым, предопределяет его участь – сытое сонное животное состояние, знаменующее собой конец истории. Нельзя не согласиться с Фукуямой в том, что «человек должен быть высшим для самого себя» [19, с. 456], чтобы предотвратить предсказание А. Коржева о том, что в этот момент исчезнет «Человек, носящий это имя по праву, то есть исчезнет Действие, отрицающее данность, и Ошибка, или более общо, Субъект как противоположность Объекту…» [20, с. 465]. Вопрос о человеке будущего философ оставил открытым.
В отличие от исследования Фукуямы книга польского ученого В. Седляка «Homo Electronicus», изданная в 1980 г., стала привлекать внимание лишь в последние годы. Но даже сейчас, спустя тридцать лет после публикации, многие предложения автора кажутся слишком смелыми. К этому мнению склоняется Leane Roffey Line в своем эссе, представляющем краткое изложение монографии Седляка с критическими комментариями. Line считает его теорию в данный момент не верифицируемой, но с интересом рассматривает ее антропологические аспекты. Седляк настаивал на том, что перспектива создания человека с улучшенными физиологическими и интеллектуальными характеристиками, жизнь которого будет гармонизирована с помощью новейших биоэлектронных коррекций, вполне осуществима. Он был уверен, что адаптация индивида к предельно насыщенной информационной среде грядущего общества, главная цель которой – интенсификация интеллектуальной деятельности, должна начинаться на внутриутробной стадии. Соглашаясь с идеями польского ученного лишь частично, Line завершает эссе фразой, способной подытожить весь предшествующий обзор: «Поскольку биосфера, которую мы населяем, является неотъемлемой частью чего-то более грандиозного, вполне возможно, что Человек по мере продвижения к пределам своего обитания эволюционирует выше уровня Electronicus, остается лишь определить, к чему это приведет» [21].
Ссылки:
-
1. Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М., 2002.
-
2. Там же.
-
3. Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание
и ХХ век. М., 2004.
-
4. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 2004.
-
5. Хагуров Т.А. «Человек потребляющий»: проблемы девиантологического анализа. М., 2006.
-
6. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего
дня. М., 2004.
-
7. Юнг К.Г. Нераскрытая самость. Синхрония: аказу-
альный объединяющий принцип. М., 2010.
-
8. Там же.
-
9. Камю А. Миф о Сизифе. Калигула.
-
10. Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода: избранные сочинения. М., 2008.
-
11. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2009.
-
12. Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М., 2002.
-
13. Там же.
-
14. Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода: избранные сочинения. М., 2008.
-
15. Мюрэ Ф. После Истории. Фрагменты книги // Иностранная литература. 2001. № 4. С. 224–241.
-
16. Бард А., Зодерквист Я. NЕТОКРАТИЯ. Новая правящая элита или жизнь после капитализма СПб., 2004.
-
17. Волков Ю.Г. Homo Humanus. Личность и гуманизм // Социологический аспект. Челябинск, 1995.
-
18. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010.
-
19. Там же.
-
20. Там же.
-
21. Line L.R. Homo Electronicus, Denizen of the Tele-cosmic Age. URL: http://science-art
ificer.iwarp.com/rich_text_8.html (дата обращения: 10.07.2011).
Недоразумение. М., 2010.
Список литературы Концептуализация социально-философских моделей человека в XX в
- Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М., 2002.
- Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. М., 2004.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 2004.
- Хагуров Т.А. «Человек потребляющий»: проблемы девиантологического анализа. М., 2006.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 2004.
- Юнг К.Г. Нераскрытая самость. Синхрония: аказуальный объединяющий принцип. М., 2010.
- Камю А. Миф о Сизифе. Калигула. Недоразумение. М., 2010.
- Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода: избранные сочинения. М., 2008.
- Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2009.
- Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М., 2002.
- Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода: избранные сочинения. М., 2008.
- Мюрэ Ф. После Истории. Фрагменты книги//Иностранная литература. 2001. № 4. С. 224-241.
- Бард А., Зодерквист Я. NЕТОКРАТИЯ. Новая правящая элита или жизнь после капитализма СПб., 2004.
- Волков Ю.Г. Homo Humanus. Личность и гуманизм//Социологический аспект. Челябинск, 1995.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010.
- Line L.R. Homo Electronicus, Denizen of the Telecosmic Age. URL: ificer.iwarp.com/rich_text_8.html' TARGET='_new'>http://science-art>ificer.iwarp.com/rich_text_8.html (дата обращения: 10.07.2011).