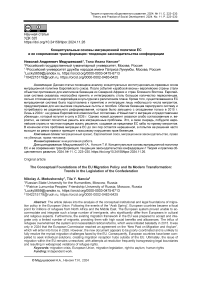Концептуальные основы миграционной политики ЕС и ее современная трансформация: тенденции законодательства конфедерации
Автор: Медушевский Н.А., Нансия Т.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена анализу концептуальных институционально-правовых основ миграционной политики Европейского союза. После событий «арабской весны» европейские страны стали объектом притяжения для миллионов беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока. Европейская система оказалась неспособна принять и интегрировать столь большое количество переселенцев, сильно отличающихся от европейцев в культурном и религиозном плане. Кроме того, существовавшая в ЕС миграционная система была подготовлена к принятию и интеграции лишь небольшого числа мигрантов, предусматривая для них высокие социальные льготы и пособия. Обилие беженцев перегрузило систему и потребовало ее радикального реформирования, которое было запущено с опозданием только в 2015 г. Лишь в 2024 г. на уровне Европейской комиссии был согласован «Новый пакт о миграции и предоставлении убежища», который вступит в силу в 2026 г. Однако новый документ оказался слабо согласованным и, вероятно, не сможет полностью решить все миграционные проблемы. Это, в свою очередь, побудило европейские страны в частном порядке искать решения, создавая за пределами ЕС хабы по приему мигрантов. В конечном итоге проблема миграции в ЕС до сих пор остается нерешенной, а попытки ее решения часто выходят за рамки права и приводят к массовому нарушению прав беженцев.
Миграционный кризис, европейский союз, миграционное законодательство, право на убежище, права человека
Короткий адрес: https://sciup.org/149146971
IDR: 149146971 | УДК: 325 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.26
Текст научной статьи Концептуальные основы миграционной политики ЕС и ее современная трансформация: тенденции законодательства конфедерации
Введение . В начале XXI века Европейский союз столкнулся с рядом социальных и политических вызовов. Растущий наплыв беженцев и мигрантов из Африки, Восточной Европы и, прежде всего, Ближнего Востока стал фактором дестабилизации европейской социальной системы и угрозой для политической стабильности объединения. Проблема имела несколько измерений, в числе которых необходимость социализации, натурализации и интеграции беженцев, противодействие нелегальной миграции, борьба с криминализацией диаспор и иммигрантских сообществ, а также противостояние правопопулистским партиям, настаивавшим на усилении национального суверенитета стран-членов в вопросах трансграничного перемещения, ограничении вынужденной и незаконной миграции и в целом снижении уровня и интенсивности евроинтеграции.
Причинами миграционного кризиса, разразившегося в 2013 г. сразу после экономического кризиса 2008–2012 гг., стала неустойчивая ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая была обусловлена последствиями «арабской весны» 2010–2011 гг. Важную деструктивную роль сыграли разрушения режимов в Сирии и Ливии, по итогам которых территории данных стран превратились в поле гражданской войны и стали прибежищем террористических организаций, в том числе ИГИЛ1, чья деятельность затронула все страны Леванта и побудила миллионы людей искать убежища вдали от родины. Все перечисленные события привели к цепной реакции и возникновению нескольких волн массовой миграции, конечной целью которых была Европа. Позже, начиная с 2013 г., к упомянутым потокам миграции добавились также мигранты из Центральной Африки, вынужденные бежать от исламского и политического радикализма, а также от этнических конфликтов в таких странах, как ЦАР, ДРК, Нигер, Мали, Буркина Фасо, Чад и др. (Медушевский, 2018). Причина, по которой они также направились в Европу, была связана с разрушением ливийской государственности, исторически создававшей буферную зону между Центральной Африкой и Европой.
Результатом массовой миграции в Европейский союз стал масштабный миграционный кризис (Медушевский, Шишкина, 2018). Его отправной точкой считается 2013 г., а апогеем – 2017 г., однако данный кризис фактически сохраняется до сих пор, на что указывают статистические данные, публикуемые агентством Евростат. Согласно статистике, на 2022 г. в ЕС официально проживало 59,9 млн человек, родившихся за пределами ЕС, что составило 13,35 % от общей численности населения Союза2. Наихудшим образом ситуация обстоит в Германии (9 млн), Франции (6,5 млн), Испании (4,8 млн), Италии (4,5 млн) и Нидерландах (1,8 млн), а также в Великобритании, вышедшей из состава ЕС по итогам Брексита в 2016 г. (Медушевский, 2016).
Миграционная угроза является реальным фактором, который оказывает влияние на все сферы социальной и политической жизни европейского сообщества, а борьба с ней превратилась в экзистенциальный вызов, требующий политических и правовых решений. В данной связи представленная статья освещает вопросы правового противодействия миграционной угрозе, реализуемого на уровне Европейского союза.
Методология и историография . При написании данной статьи авторы руководствовались принципами неоинституционального и структурно-функционального подходов. Ориентация на данные подходы позволила изучить систему институтов Европейского союза, реализующих миграционную политику объединения, показать эволюцию институциональной системы и трансформацию номенклатуры выполняемых данными институтами функций. Кроме того, в исследовании были выделены основные идейно-правовые подходы, лежащие в основе миграционной политики ЕС, и, в частности, в аспекте политики Союза в отношении беженцев. В числе методов, использованных авторами данной статьи, следует отметить элементы нормативно-правового и дискурс-анализа. Нормативно-правовой анализ позволил изучить основные акты ЕС, администрирующие практику миграционной политики объединения в то время, как обращение к дискурс-анализу дало возможность изучить современную дискуссию о реформировании миграционного законодательства и поиске новых решений, способных снизить деструктивный эффект миграционного кризиса.
Историография проблемы исследования обширна и включает современные публикации как на русском, так и на иностранных языках. В числе отечественных работ особый интерес представляют публикации А.А. Мартынова (2019), А.Н. Кожановского (2019), М.И. Малыхи (2015), Е.А. Нарочницкой (2016), А.А. Моисеева (2016). Иностранная литература по проблеме представлена, в том числе, статьями Е. Квин (Quinn, 2016), А. Атинны (Attinà, 2018), Е.А. Ормсби (Ormsby, 2017), А. Исдайджу и Е.Ф. Кеймана (İçduygu, Keyman, 2000), Ф. Тассинари (Tassinari, 2016) и др.
Применительно к отечественным и зарубежным публикациям отметим, что большая их часть была написана в разгар миграционного кризиса в ЕС и опубликована до 2018 г. Это подтверждает новизну нашего исследования, ориентированного на развитие ситуации в последние три года и текущую трансформацию институтов ЕС.
Правовые рамки миграционной политики ЕС . Вступление в силу Лиссабонского договора в 2009 г. ознаменовало конец «третьего столпа» или отдельного подхода к сфере юстиции и внутренних дел, в которых до этого доминировали национальные принципы, основанные на международном праве. Это ознаменовало начало новой эры для всей области юстиции и внутренних дел, с полной компетенцией Комиссии Европейского союза регулировать миграционную политику и инициировать дела о нарушении миграционного законодательства. В то же время следует отметить, что само миграционное законодательство ЕС долгое время было оформлено достаточно слабо и не было унифицировано. Кроме того, решения о миграционной политике в отношении граждан третьих стран регулировались на основе двухсторонних соглашений между конкретной страной и ЕС (Трыканова, 2010), а также на уровне самих стран в вопросах визовой политики, предоставления гражданства, убежища и т. д.
Тем не менее в законодательстве ЕС была предусмотрена структура миграционной политики, утвержденная Амстердамским договором от 1997 г.1 В данном конституирующем ЕС документе был прописан раздел IV «Визы, убежище, иммиграция и другие направления политики, связанные со свободным перемещением лиц», которая стала основой для дальнейшего развития миграционного законодательства ЕС.
Поскольку сегодня ЕС фактически представляет собой конфедеративное образование, регулирование миграционной политики реализуется на национальном и общеевропейском уровнях. В процессе развития и интеграции ЕС это вызвало конфликт между странами-членами и европейскими институтами, который развивается до сих пор.
Характеризуя структуру европейского миграционного законодательства, отметим ее много-компонентность. Законодательство по миграции включает в себя акты по регулированию легальной и нелегальной миграции, вопросы границ, виз, предоставление убежища и внешние аспекты регулирования миграции во взаимодействии с третьими странами. Тем не менее первостепенным компонентом, значение которого актуализировалось после начала миграционного кризиса, стал комплекс актов и институтов по беженцам, законодательно связанный со всеми другими направлениями. Так, уже в рамках Амстердамского договора в 1999 г. была создана нормативная основа для предоставления Европейским союзом убежища для беженцев. Она получила название CEAS (Единая европейская система предоставления убежища). Система была запущена в работу в 2005 г., после принятия всех законодательных актов первого этапа2. В 2008 г. Европейской комиссией был принят «План действий по вопросам предоставления убежища», на основании которого акты первого этапа были пересмотрены и вновь приняты в 2013 г. Сопутствующим институциональным решением стало создание Европейского бюро поддержки предоставления убежища.
Единая европейская система предоставления убежища (CEAS) является ключевым институтом системы работы с беженцами. Деятельность организации основана на комплексе директив ЕС, в число которых входят:
-
• Директива 2001/55/EC о минимальных стандартах предоставления временной защиты в случае массового наплыва перемещенных лиц;
-
• Директива 2011/95/EU о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты;
-
• Директива 2013/32/ЕС об общих процедурах предоставления и отзыва международной защиты;
-
• Директива 2013/33/EU, устанавливающая стандарты приема заявителей на получение международной защиты;
-
• Регламент ЕС № 603/2013 о создании Eurodac для сравнения отпечатков пальцев в целях эффективного применения «Дублинского регламента»;
-
• Регламент (ЕС) № 604/2013, устанавливающий критерии и механизмы определения государства-члена ЕС, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты [Дублинский регламент];
-
• Регламент (ЕС) № 118/2014, устанавливающий подробные правила применения «Дублинского регламента»3.
Деятельность CEAS направлена на установление юридически обязательных правил и выработку процедур, которым должны следовать государства-члены, чтобы гарантировать полное соблюдение прав лиц, ищущих международной защиты. Она имеет в своей основе международные акты, в т. ч. Женевскую конвенцию о статусе беженцев 1951 г., Европейскую конвенцию о защите прав человека 1953 г. и Протокол № 4 к ней, запрещающий коллективную высылку иностранцев 1963 г., а также Конвенцию о правах ребенка 1990 г.
Связь деятельности CEAS с законодательством ЕС в сфере регулирования миграции основана на таких документах, как Директива Совета 2003/86/EC о праве на воссоединение семьи; Директива Совета 2003/109/EC о статусе граждан третьих стран, постоянно проживающих в ЕС; Директива 2008/115/EC об общих стандартах и процедурах в государствах-членах ЕС по возвращению незаконно находящихся на территории страны граждан третьих государств.
Формат деятельности Европейского бюро поддержки предоставления убежища (EUAA), действующего в рамках CEAS, отражает работу по регулированию вопросов миграции общеевропейского уровня в миниатюре. Так, EUAA – это своего рода медиатор, который оказывает практическую, юридическую, техническую, консультативную и оперативную помощь государствам-членам ЕС по работе с разными категориями мигрантов, претендующих на получение статуса беженца. Как отмечается на сайте организации, агентство «не заменяет национальные органы по предоставлению убежища или приему беженцев, которые в конечном итоге несут полную ответственность за свои процедуры и системы». Однако оно стремится направить нормативно-правовую работу на национальном уровне в общеевропейское русло. В долгосрочной перспективе агентство нацелено на унификацию законодательства и практик. Это означает, что заявитель, подающий документы на статус беженца в любой стране ЕС и в странах-претендентах на членство (ЕС+), всегда будет проходить одинаковую процедуру с одинаковыми условиями. В рамках единой системы у заявителя будут одинаковые права, обязанности и условия приёма независимо от страны. Кроме того, не будет национальных факторов, которые могли бы стать причиной отказа в присвоении ему статуса.
После 2013 г. законодательство ЕС о предоставлении убежища также трансформировалось. В 2016 г. были предложены акты третьего этапа создания Общей европейской системы предоставления убежища. Данные акты учли опыт разгоревшегося миграционного кризиса, однако до сих пор не все акты были приняты, т. е. третий этап остается незавершенным.
Регламент о предоставлении убежища и управлении миграцией (AMMR) . Основной проблемой реализации третьего этапа реформирования миграционного законодательства ЕС стало принятие Регламента о предоставлении убежища и управлении миграцией (AMMR)1, который должен был заменить упомянутый выше Регламент (ЕС) № 604/2013, устанавливающий критерии и механизмы определения государства-члена ЕС, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты [Дублинский регламент или Дублин III].
Проект нового регламента, как и вся миграционная политика ЕС в целом, базируется на трех декларируемых принципах. Среди них: 1) эффективные процедуры предоставления убежища и возвращения; 2) солидарность и справедливое распределение ответственности (между странами ЕС); 3) укрепление партнёрских отношений с третьими странами2.
Важность данного документа связана с намерением достижения нового уровня взаимодействия между странами-членами ЕС в вопросе переселения мигрантов-беженцев, в аспекте взносов в обеспечение процесса, а также в привлечении персонала для обслуживания беженцев и в целом по вопросу наращивания потенциала миграционного регулирования. Одним из новшеств должно, например, стать право принимающей страны «откупиться» от приема беженца, заплатив за его перемещение в другую страну Союза 20 000 евро3.
Регламент должен стать частью Нового пакта о миграции и предоставлении убежища (New Pact on Migration and Asylum). Предполагается, что он вступит в силу только в 2026 г.4 Однако с учетом сохраняющейся интенсивности миграции в ЕС это является крайне поздней перспективой. Кроме того, проект документа столкнулся с серьезной критикой со стороны стран-членов Союза.
Принципы Нового пакта о миграции и предоставлении убежища. Пакт написан в русле уже перечисленных выше принципов миграционной политики ЕС. Объектом регулирования нового документа выступают нелегальные мигранты, прибывающие в страны ЕС и заявляющие о том, что им требуется убежище (статус беженца). К примеру, в 2023 г. в ЕС таким образом прибыло более 300 тыс. человек1, что составило около 30 % от общего числа мигрантов в этом году.
В соответствии с принципами CEAS, пакт нацелен на унификацию практик работы с данным типом мигрантов. Он предусматривает однотипную модель идентификации мигрантов, диагностику их здоровья, а также экспертизу на предмет того, действительно ли они у себя на родине подвергались опасности и могут претендовать на статус беженца в ЕС2. В контексте борьбы с криминалом и преступностью мигранты должны будут сдавать биометрию, размещаемую в базе данных Eurodac3.
Предполагается, что проситель убежища подает заявление на предоставление такового в стране прибытия и остается там до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о том, в какой из стран ЕС он сможет остаться4.
Отдельная система процедур предусмотрена для лиц, не подпадающих под статус беженца, или достоверность информации о которых не подтверждена, а также лиц, представляющих угрозу для принимающей стороны (например, участников террористических организаций). Такие лица содержатся в приграничных районах в специальных зонах (лагерях), и к ним должна применяться процедура депортации, которая в проекте документа именуется «процедура возвращения с поддержкой реинтеграции»5. Также отмечается, что в пакте будут предусмотрены кризисные протоколы, суть которых не раскрывается.
Процесс регистрации и идентификации мигранта результируется принятием решения по его статусу с дальнейшими действиями по распределению внутри ЕС или депортации. Весь процесс, согласно регламенту, не должен превышать 3-х месяцев, и даже с учетом апелляции со стороны мигранта по неудовлетворяющему его решению может быть продлен только на 2 месяца, после чего вступает в силу итоговое решение. Данная пятимесячная процедура применяется к мигрантам из стран, в отношении граждан которых положительные решения в целом принимаются менее чем в 20 % случаев6. Для остальных мигрантов предусмотрена обычная процедура. Ее срок не устанавливается, хотя в современной практике она занимает около 3-х лет, а может растянуться и на более длительный срок7. С высокой долей вероятности будет принято решение о депортации8. Предполагается, что время рассмотрения все же будет сокращено, и человек, получивший отказ, будет депортирован, но не обязательно на родину. Отмечается, что местом депортации может быть «страна транзита»9.
Отличие от современной системы, регулируемой Дублинским регламентом, будет выражаться в централизованности процесса, в том числе в вопросе выдачи разрешений на прибывание, которые на данный момент выдаются самостоятельно страной нахождения мигранта10. Кроме того, система должна предусматривать и перераспределение мигрантов между странами ЕС, чтобы снизить издержки основных стран-реципиентов, например Италии и Греции. Предполагается, что они смогут переместить до 30 тыс. мигрантов в год на основании работы принципа коллективной солидарности. Также в проекте отмечается, что страны, не желающие принимать мигранта, смогут откупиться от его приема в пользу ЕС, который перераспределит мигранта, выплатив данную сумму итоговому реципиенту-члену сообщества11.
Выводы и критика Нового пакта о миграции и предоставлении убежища. Пакт о миграции и предоставлении убежища в его итоговом варианте оказался крайне противоречивым документом, но тем не менее прошел утверждение Советом Евросоюза в мае 2024 г., хотя его вступление в силу планируется лишь в 2026 г. и, вероятно, практическая сторона реализации пакта еще претерпит много изменений. На это указывают и формат голосования, и сопутствовавшие ему решения и инициативы.
Так, например, практически сразу после принятия пакта 19 стран-членов ЕС выступили с инициативой заключения от лица Евросоюза соглашений с рядом третьих стран по содержанию беженцев на их территории до принятия соответствующими европейскими органами решения по каждому отдельному случаю. Подобные прецеденты уже имели место в отношениях ЕС и Турции в разгар миграционного кризиса. Такая сделка сегодня действует между Италией и Албанией.
Еще один схожий вариант – это соглашение между Великобританией и Руандой. Отметим, что все сделки такого типа критикуются, в том числе, и самими европейскими странами за нарушение прав человека, так как страны, в итоге принимающие беженцев на своей территории, не считают их «своими» и нацелены лишь на привлечение прибыли при минимизации издержек в содержании людей, что ведет к превращению лагерей беженцев в аналог концентрационных. Худший пример в данном контексте – Ливия, где подобные лагеря стали рассадниками коррупции, преступности, торговли людьми и наркотиками. В итоге решение проблемы миграции плавно перешло из области эффективного регулирования в область репрессий по недопущению мигрантов к миграционной системе ЕС.
Что касается сути самого принятого пакта, то он, как результат коллективного компромисса всех стран-членов ЕС, стал решением, которое «никому не нравится»1, такое решение не было поддержано даже Польшей и Венгрией, которые в принципе дистанцируются от миграционной политики и закрывают свои границы для беженцев Востока и Африки. В то же время идея фильтрационных лагерей за пределами ЕС нашла широкую поддержку в лице Италии, Чехии, Дании, Австрии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Эстонии, а также Венгрии и Польши, т. е. почти половины стран ЕС.
В числе проблем принятого пакта его критики отмечали следующее. Во-первых, в документе недостаточно проработана схема предотвращения иммиграции2 и депортации нелегалов3, что может лечь финансовым бременем на конкретные принимающие страны и ухудшить социальную обстановку именно в них, а не в ЕС в целом, несмотря на формальное распределение. Во-вторых, пакт подрывает национальный суверенитет в вопросах национальной миграционной политики, которая может быть жёстче, чем общеевропейская4. В-третьих, Польша и Венгрия в принципе заявили о своем праве никого не принимать, защищая свою идентичность и стабиль-ность5. В-четвертых, критика со стороны правозащитников, например, Amnesty International, оказалась связана с вопросом соблюдения в рамках пакта прав человека и беженца, которые нарушаются в период принятия решения и в случае депортации6. В-пятых, общая критика по содержанию проекта связана с незначительностью эффекта в случае реализации, так как новая система будет жестко контролировать и депортировать только тех, кто солгал о своей личности или представляет угрозу, а количество таких мигрантов не превышает 15 % от их общего числа. В отношении же остальных 85 % ситуация изменится незначительно7.
Таким образом, новое решение в области миграционного законодательства ЕС после своего вступления в силу в 2026 г. вряд ли создаст видимый эффект в сфере регулирования миграционных потоков из Африки и Азии в Европейский союз. Гораздо более вероятен иной результат, выражающийся в реализации параллельных жестких решений частного характера, связанных с созданием лагерей беженцев за пределами ЕС, которое повлечет массовое нарушение прав человека. Кроме того, вероятна радикализация миграционной политики ЕС в целом, так как на фоне неспособности выработать эффективное решение проблемы в рамках неолиберальной системы все увереннее звучат предложения трансформировать идеологическую платформу и, например, переписать Конвенцию о статусе беженцев ООН1.
Список литературы Концептуальные основы миграционной политики ЕС и ее современная трансформация: тенденции законодательства конфедерации
- Кожановский А.Н. «Европейский миграционный кризис» и Испания // Сибирские исторические исследования. 2019. № 3. С. 6-22. https://doi.Org/10.17223/2312461X/25/1.
- Малыха М.И. Новые вызовы для современной миграционной политики Европейского Союза // Studia Humanitatis. 2015. № 4. С. 8-14.
- Мартынов А.А. Миграция в Евросоюзе // Архонт. 2019. № 4 (13). С. 53-59.
- Медушевский Н.А. Выход Великобритании из ЕС как результат кризиса культуры толерантности // Власть. 2016. Т. 24, № 10. С. 9-13.
- Медушевский Н.А. Миграция в странах Африки к Югу от Сахары // Власть. 2018. Т. 26, № 1. С. 186-188.
- Медушевский Н.А., Шишкина А.Р. Миграционные процессы современности: ситуативное явление или глобальный исторический вызов? М., 2018. 164 с.
- Моисеев А.А. Миграционная политика Франции в рамках Европейского союза // Российский научный журнал. 2016. № 1 (50). С. 63-67.
- Нарочницкая Е.А. «Кризис беженцев» и иммиграционный вопрос в Европе // Актуальные проблемы Европы. 2016. № 4. С. 20-37.
- Трыканова С.А. Миграционная политика ЕС: актуальные тенденции организационно-правового регулирования // Российская юстиция. 2010. № 10. С. 21-23.
- Attina F. Tackling the migrant wave: EU as a source and a manager of crisis // Revista Española de Derecho Internacional. 2018. Vol. 70, no. 2. P. 49-70. https://doi.org/10.17103/redi.70.2.2018.1.02.
- ipduygu A., Keyman E.F. Globalization, Security, and Migration: The Case of Turkey // Global Governance. 2000. Vol. 6, no. 3. P. 383-398. https://doi.org/10.2307/27800270.
- Ormsby E.A. The Refugee Crisis as Civil Liberties Crisis // Columbia Law Review. 2017. Vol. 117, no. 5. P. 1191-1229.
- Quinn E. The Refugee and Migrant Crisis: Europe's Challenge // Studies: An Irish Quarterly Review. 2016. Vol. 105, no. 419. P. 275-285.
- Tassinari F. The Disintegration of European Security: Lessons from the Refugee Crisis // PRISM. 2016. Vol. 6, no. 2. P. 70-83.