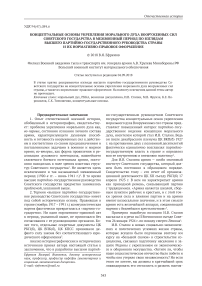Концептуальные основы укрепления морального духа вооруженных сил советского государства в межвоенный период по взглядам высшего партийно-государственного руководства страны и их нормативно-правовое оформление
Автор: Ефремов Валерий Яковлевич
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3-2 т.20, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье кратко раскрываются взгляды высшего партийно-государственного руководства Советского государства на концептуальные основы укрепления морального духа вооруженных сил страны, а также их нормативно-правовое оформление. На полноту освещения данной темы автор не претендует.
Моральный дух, ркка, воинская дисциплина, и.в. сталин, м.в. фрунзе, к.е. ворошилов, с.к. тимошенко, концептуальные основы
Короткий адрес: https://sciup.org/148313981
IDR: 148313981 | УДК: 94(47).084.6
Текст научной статьи Концептуальные основы укрепления морального духа вооруженных сил советского государства в межвоенный период по взглядам высшего партийно-государственного руководства страны и их нормативно-правовое оформление
Предварительные замечания
-
1. Опыт отечественной военной истории, обобщенный в историографии, свидетельствует: проблема укрепления морального духа как, во-первых , состояния сознания личного состава армии, характеризующего духовную способность и готовность вооруженных сил к действиям в соответствии со своим предназначением и поставленными задачами в военное и мирное время; во-вторых , как форма проявления и реализации духовного потенциала, важнейшего слагаемого боевого потенциала армии, постоянно находилась в поле зрения властных структур Советского государства1. Не является здесь исключением и так называемый межвоенный период (1920-е гг. – июнь 1941 г.)2. В то время высшее партийно-государственное руководство Советского государства предметно занималось проблемой, указанной выше.
-
2. Термин «высшее партийно-государственное руководство Советского государства» имеет под собой историческую основу. Правившая в стране (ноябрь 1917 – 1991 г.) коммунистическая партия фактически превратилась в «партию-государство». Ни один нормативно-правовой акт в период, указанный выше, не принимался без согласования с ее руководящими органами. Более того, отдельные секретные документы ЦК РКП(б), ЦК ВПК(б), ЦК КПСС принимали де-факто силу закона без соответствующего юридического оформления3.
Анализ историографических и исторических источников привел автора настоящей статьи к заключению, что в разработке высшим партий- Ефремов Валерий Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
но-государственным руководством Советского государства концептуальных основ укрепления морального духа Вооруженных сил страны представляет повышенный интерес партийно-государственное видение концепции морального духа, носителем которой стал И.В. Сталин. Ведь он после декабрьского пленума ЦК ВКП(б) 1927 г. на протяжении двух с половиной десятилетий фактически единолично возглавлял партийногосударственную власть в стране и определял всю ее внутреннюю и внешнюю политику4.
Для И.В. Сталина армия — особо значимый институт Советского государства, который должен быть постоянно в образцовом порядке. Свидетельство тому – его отчет об организационной деятельности ЦК XII съезду РКП(б) 17 апреля 1923 г. В нем он характеризует армию как приводной ремень, связывающий партию с трудящимися. «Армия является школой, сборным пунктом рабочих и крестьян, и с этой точки зрения сила и влияние партии и на армию имеют колоссальное значение, и в этом смысле армия есть величайший аппарат, соединяющий партию с беднейшим крестьянством»5.
Примерно подобную позицию И.В. Сталин высказал и в речи на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 г. по поводу смерти Ленина6.
И.В. Сталин в новых социально-экономических и политических условиях жизни страны, которые всецело были подчинены взятому им курсу на «большой скачок» в строительстве социализма, связывал подготовку населения к защите Родины с укреплением ее экономического и оборонного могущества. «Хотите ли, чтобы наше cоциалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоя- щие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет», – писал лидер Советского государства7.
Для него было ясно, что Советский Союз, являясь миролюбивым государством, всегда готовится к войне с капиталистическим окружением. Об этом он говорил, в частности, 19 января 1925 г. на пленуме ЦК РКП(б). И указывал, что при необходимости «мы сами перейдем к политике наступательных действий»8.
И.В. Сталин также подчеркивал всенародный характер защиты Союза ССР и утверждал, что «дело укрепления обороны Советской страны есть дело всех трудящихся»9.
Характеризуя особенности социального и национального состава Красной армии, он называл ее рабоче-крестьянской армией, куда входят представители всех наций и народностей страны, объединенные духом братства и интернациона-лизма10. Тем самым уже закладывались предпосылки для успешного решения задачи укрепления морального духа РККА. Причем И.В.Сталин понимал, что человеческий фактор здесь выходит на первое место. Так, выступая с речью в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной армии 4 мая 1935 г., он подчеркнул, что техника «без людей, овладевших техникой, мерт-ва»11, и главное — «научиться ценить людей»12.
При этом необходимо подчеркнуть, что в плане оценок морального духа Красной армии у большевистского лидера не имелось сомнений в следующем: армия будет драться «насмерть за завоевания революции»13, а мощным стимулом здесь выступит в том числе поддержка «друзей рабочего класса СССР в Европе и Азии»14. Характерно и то, что в речи 5 мая 1941 г. в Кремле на приеме для выпускников военных академий И.В. Сталин акцентировал внимание в том числе и на человеческом факторе15.
Однако в условиях эскалации вакханалии беззакония, порожденного все более набиравшим силу культом личности И.В. Сталина, столь правильные мысли, изложенные выше, превращались в громкую, но пустую фразу, никого и ни к чему не обязывающую. Текстологический анализ заключительного слова И.В. Сталина на пленуме Центрального комитета ВКП(б) 5 марта 1937 года показывает, что главным для большевистского вождя является проблема, как «практически осуществить задачу разгрома и выкорчевывания японо-германских агентов троцкизма»16, спасти от их происков в том числе и армию. Причем, что представляется принципиальным, вакханалию репрессии в РККА И.В. Сталин классифицировал на XVIII съезде ВПК(б) как «очищение», приведшее к укреплению армии. И в качестве аргумента привел победу, одержанную Красной армией у озера Хасан17.
Заслуживает внимания позиция И.В. Сталина в отношении войны с Финляндией, высказанная им в апреле 1940 года на совещании начсостава РККА, посвященном оценке опыта боев. Причем он, допустив высказывания о Финляндии в уничижительной форме, на заседании комиссии Главного военного совета 21 апреля 1940 года в Кремле высказал мысль о необходимости «коренным образом переделать нашу военную идеологию»18.
Таким образом, для И.В. Сталина в концептуальном видении проблемы морального духа армии на первое место выступают политические аспекты. Он тесно связывает ее с деятельностью по укреплению Советского государства, в том числе и в сфере его обороноспособности, понимает силу человеческого фактора в военном строительстве.
Однако все это подчинено в конечном итоге чистке армии посредством масштабных репрессий, призванных, по его мысли, всемерно укрепить РККА, в том числе и в морально-политическом отношении. Пагубность подобной позиции не вызывает сомнений. То, что насажденная в армии система доносительства, разоблачения «врагов народа» подрывала напрочь воинскую дисциплину19, эту сердцевину морального духа войск, думается, говорит само за себя.
Особое внимание следует уделить анализу взглядов М.В. Фрунзе. Он изложил их в работах, написанных в период пребывания на высших партийных и военно-политических должностях в Советской России и СССР20. Данные работы выходили в свет отдельными брошюрами, сборниками статей21, печатались в военной периодике, а затем были включены в состав собрания сочинений22. Впечатляет, что в 1921-1925 гг. М.В. Фрунзе создал более 150 работ, в которых отражены главные теоретические проблемы и практические вопросы советского военного строительства, политико-воспитательной работы в Красной армии. Подчеркнем, что он (в силу должностного положения) имел огромный массив информации для анализа и синтезирования выводов, отдельные из которых не потеряли своей значимости, полагает автор настоящей статьи, и для современного этапа военного строительства в РФ. Текстологический анализ произведений М.В. Фрунзе, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме23, позволил исследователю выйти на ряд суждений обобщающего характера.
М.В. Фрунзе осознал, что новые исторические условия требуют новых подходов к вопросам укрепления морального духа РККА. Он вычленил в 1924 г., в самом начале военной реформы, главную причину неудач в данной сфере – неумение командного и политического состава найти здесь правильный путь24. В поис- ках путей повышения уровня морального духа армии М.В. Фрунзе считал необходимым обеспечить комплексный подход – сочетание мер убеждения с принуждением, воспитанием и организационной, административно-правовой деятельностью. При этом он все больше смещал акцент на проблемы формирования высокого уровня правосознания, умения убедить воинов в значимости ратного труда, необходимости поддержания крепкой воинской дисциплины и правопорядка.
Представляется значимым и обобщающее заключение М.В. Фрунзе, сделанное уже в 1925 г. о том, что «в отношении дисциплины Красная Армия сделала гигантский шаг вперед»25. Сказанное между тем не отрицает, что он не подразумевал в арсенале средств дальнейшего укрепления воинской дисциплины, как несущей опоры в деле укрепления морального духа армии, жестких мер принуждения26.
Наиболее ярко изложена значимость крепкой воинской дисциплины и правопорядка, в частности, в статье М.В. Фрунзе «Фронт и тыл в войне будущего»27, а также в его речах на общем собрании Московского гарнизона 16 февраля 1925 г., на торжественном заседании расширенного пленума Ленинградского губи-сполкома 24 февраля 1925 г. и на гарнизонном собрании в Тифлисе 15 апреля 1925 г.28 Ряд вопросов, имеющих опосредованное отношение к проблеме укрепления морального духа РККА, поставлен М.В. Фрунзе на I Всесоюзном совещании Военно-научного общества СССР 22 мая и на Ленинградской военно-окружной партийной конференции 19 июня 1925 г.29 Характерно, что он, рассматривая проблемы политико-воспитательной работы в РККА, придавал в плане повышения морального духа войск большое значение проблеме интернационального воспитания. Для него являлось аксиоматичным, что основной задачей внутри армии является «укрепление взаимной связи и братской солидарности трудящихся различных национальностей»30.
Такая позиция, высказанная М.В. Фрунзе в январе 1925 г. в статье «Красная Армия выполняет заветы Ленина»31, не должна расцениваться, полагает автор настоящей статьи, в качестве нечто неординарного. Интернациональное воспитание бойцов и командиров с учетом того, что РККА становилась все более многонациональной, постоянно находилось в поле зрения привившей в Советском государстве коммунистической партии.
Но в анализируемых работах есть другой принципиальный момент. В трехтомнике собрания сочинений М.В. Фрунзе много места занимают труды, посвященные вопросам партийного строительства и идеологической работы в Вооруженных силах. Самое интересное заклю- чается в следующем. Контент-анализ вышеупомянутого трехтомника32 показал: в любой своей работе М.В. Фрунзе обязательно, в той или иной форме, касался проблем деятельности органов военного управления, партийных организаций по дальнейшему укреплению воинской дисциплины и правопорядка. Причем в его трудах, посвященных проблемам военной реформы, тема деятельности органов военного управления, партийных организаций по дальнейшему укреплению воинской дисциплины и правопорядка рассматривается больше в непосредственном, нежели в опосредованном ключе.
Вышеизложенное позволяет считать, что М.В. Фрунзе являлся носителем оригинальных идей, имевших отношение к проблеме морального духа армии. Во главу угла он ставил проблемы укрепления воинской дисциплины, формирования правосознания военнослужащих. Однако здесь нет прямой дефиниции «моральный дух», некоторые идеи несут отпечаток конспективности. Видимо, ранняя смерть в возрасте 40 лет помешала развить их более глубоко.
Исследователь считает, что не более как историографический факт следует классифицировать некоторые мысли о проблеме морального духа, высказанные в анализируемом хронологическом периоде К.Е. Ворошиловым и С.К. Тимошенко. Тому есть следующие причины.
Во-первых , К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко в исследуемом периоде являлись верными апологетами И.В. Сталина; они несут (особенно К.Е. Ворошилов) наряду со своим патроном и вдохновителем историческую ответственность за массовые репрессии в РККА в 1937-1938 гг.; оба не имели самостоятельных суждений по рассматриваемой проблеме33; их высказывания в данной сфере являлись косвенными, разъяснявшими (сквозь призму восхваления И.В. Ста-лина34) мысли вождя. Все это облачалось (во второй половине 1930-х гг.) в обязательную форму, где несущей опорой выступали призывы к поиску и разоблачению врагов народа.
Во-вторых , информация в работах К.Е. Ворошилова, С.К. Тимошенко, имеющая отношение к партийно-государственному видению концепции морального духа армии, не несет высокой источниковедческой ценности, какую имеют, как правило, историографические источники.
Между тем, если отбросить безудержную апологетику сталинизма, нельзя не обратить внимания на следующий, относительно положительный аспект трудов К.Е. Ворошилова. Он, в частности, высоко оценивал роль Красной армии в политическом воспитании красноармейцев, подчеркивая, что она является не только вооруженной силой, защищающей государство, но и серьезной школой грамоты, техники, культуры одновременно – партийно-политической школой35. И в данном контексте К.Е. Ворошилов уделял много внимания проблемам укрепления воинской дисциплины36. История подтвердила справедливость его оценок воспитательной роли армии. Не вызывает сомнения и позиция автора о значимости воинской дисциплины. Но с дистанции времени высказывания наркома обороны СССР, активного участника сталинских репрессий против командных кадров РККА, о сознательной воинской дисциплине иначе как лицемерием не назовешь.
Необходимо подчеркнуть, что взгляды партийно-государственных деятелей по проблеме морального духа повлияли на нормативную базу, сформированную в 1920-е гг. – июне 1941 г. Так, некоторые положения из работ М.В. Фрунзе нашли свое отражение в косвенной форме в законодательных и нормативных актах, изданных в СССР в период проведения военной реформы. Например, в постановлении ЦК ВКП(б) о состоянии обороны СССР 15 июля 1929 г. отмечается, что в результате твердого проведения принципа единоначалия «произошло общее укрепление частей Красной Армии, укрепление дисциплины…»37.
Причем на уровне органов государственной власти и военного управления давалась ориентировка на доминирование мер убеждения. Свидетельство тому – специальный циркуляр Революционного военного совета СССР (РВС СССР) от 13 октября 1925 года, коим реввоенсоветам военных округов и флотов было вменено в обязанность развернуть в кратчайший срок пропаганду и изучение уставов Красной армии начальствующим и рядовым составом, построить на их основе взаимоотношения между военнослужащими, дисциплинарную практику и контакт в работе по укреплению воинской дисциплины между командованием, политорганами и судебно-контрольными органами38.
И даже тогда, когда стало ясно, что состояние воинской дисциплины в армии вызывает озабо-ченность39, в резолюции Второго Всеармейского совещания секретарей партийных организаций в 1928 г. отмечалось, что в частях имеет место «… недостаточность мер воспитательного порядка»40.
Подобная тенденция нашла определенное отражение и в некоторых документах ВКП(б) начала 1930-х гг. Например, в приветствии ЦК ВКП(б) Рабоче-крестьянской армии, Революционному военному совету СССР от 23 февраля 1933 г. в связи с 15-летием Красной Армии ЦК призвал (а когда призывают, значит, апеллируют к сознательности) советских воинов ни на минуту не забывать об опасности военного нападения на Советский Союз. ЦК ВКП(б) также призвал крепить дисциплину, учиться военному мастерству, овладевать военной техникой (обратим внимание, что проблема дисциплины поставлена на первое место. – В.Е. )41.
Между тем чем явственнее оформлялась тенденция к эскалации культа личности И.В. Сталина, проявлявшаяся на фоне становившейся все большей реальностью угрозы Второй мировой войны, тем жестче становилось содержание нормативно-правовых актов разного уровня в части, касающейся отражения партийно-государственного видения концепции морального духа армии. Так, в директиве начальника Политуправления РККА Л.З. Мехлиса №211 от 20 июля 1939 г. предписывалось при организации политических занятий широко использовать «тексты присяги и закона о каре за измену родине (подчеркнуто автором настоящей статьи. – В.Е .)»42.
Особую роль сыграло определение 3 января 1939 г. Президиумом Верховного Совета СССР нового текста военной присяги и порядка ее принятия43. По сравнению с прежним текстом в нем содержалась личная клятва воина защищать Отечество «не щадя крови и самой жиз-ни»44. Более четко выражалась ответственность за нарушение присяги: «Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского Закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся»45. Новый порядок, по сравнению с ранее существовавшим, предусматривал не коллективное (в строю части), а индивидуальное принятие присяги. Этот порядок повышал ответственность военнослужащих за выполнение ее требований. 23 февраля 1939 г. Красная армия приняла новую присягу.
Летом 1940 г. Президиум Верховного Совета издал указы «Об ответственности за самовольные отлучки и дезертирство», «Об укреплении единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте»46, а 2 декабря 1940 г. был введен в действие новый Дисциплинарный устав47. Устав дал четкое определение воинской дисциплины: «Советская воинская дисциплина есть знание и строгое соблюдение установленного в Красной Армии порядка, основанного на законах Советского правительства и на воинских уставах, регламентирующих жизнь, быт и боевую деятельность войск»48.
Особо следует подчеркнуть в данной связи противоречивость сталинской политики в военном строительстве. Так, 15 августа 1937 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР был введен институт военных комиссаров в РККА49. В Положении указывалось, что военные комиссары назначаются для политического руководства и непосредственного проведения партийнополитической работы в войсковых частях, соединениях, учебных заведениях, учреждениях и управлениях РККА. Командир являлся высшим начальником в подчиненной ему части и наравне с комиссарами отвечал за политико-моральное состояние части и воспитание личного состава50. Однако 12 августа 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об укреплении единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте»51. В целях осуществления в частях и соединениях полного единоначалия и дальнейшего повышения авторитета командира отменялось «Положение о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1937 г.) и вводился институт заместителей командиров по политической части52.
Таким образом, есть основания для следующего обобщения: в так называемом межвоенном периоде (1920-е гг. – июнь 1941 г.) налицо эволюция концепции морального духа армии в видении партийно-государственного руководства СССР и в ее нормативно-правовом оформлении, которые были созданы еще в годы Гражданской войны53. Ее суть — признание возможности использования в деле формирования моральной стойкости войск опоры на методы убеждения. Вместе с тем доминанта принуждения в данной сфере все более выдвигалась на первый план. Она приобретала в условиях эскалации культа личности И.В. Сталина гипертрофированный характер, когда, например, массовые репрессии считались исключительно эффективным средством формирования у личного состава РККА бдительности и любви к Отечеству. Хотя на деле они подрывали воинскую дисциплину, в частности такой ее остов, как единоначалие, создавали морально-психологическую напряженность в воинских коллективах.
Список литературы Концептуальные основы укрепления морального духа вооруженных сил советского государства в межвоенный период по взглядам высшего партийно-государственного руководства страны и их нормативно-правовое оформление
- Скирдо М.Н. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. М., 1959;
- Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах. М., 1979;
- Волкогонов Д.А. В.И. Ленин о моральном факторе в войне. М., 1970;
- Пути повышения эффективности морально-политической и психологической подготовки личного состава в подразделении, части. Материалы научно-практической конференции. М., 1989;
- Духовное наследие российской армии: история и современность. Материалы научно-практической конференции 23 апреля 1998 г. М., 2000;