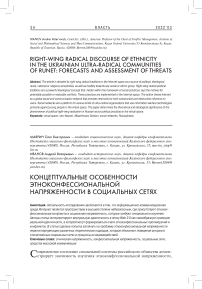Концептуальные особенности этноконфессиональной напряженности в социальных сетях
Автор: Маврин Олег Викторович, Иванов Андрей Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Круглый стол
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования заключается в том, что информационно-коммуникационная среда Интернет является пространством в высшей степени небезопасным, где присутствуют этноконфессиональные конфликты и социальная напряженность, которые требуют специального изучения. Авторы статьи интерпретируют виртуальную идентичность в эпоху Web 2.0 как своеобразную проекцию реальной идентичности, в которой могут формироваться очаги этноконфессиональных противоречий и конфликтов. В статье сделана попытка взглянуть на проблему этноконфессиональной напряженности через интерпретацию различных теоретических подходов, которые объясняют поведение акторов в отечественных социальных сетях и процессы их взаимодействий.
Этническая напряженность, конфессиональная напряженность, социальные сети, средства массовой коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/170194565
IDR: 170194565 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9040
Текст научной статьи Концептуальные особенности этноконфессиональной напряженности в социальных сетях
Современное состояние социальной системы российского общества демонстрирует значимость изучения этноконфессиональной напряженности, возникающей в процессе отображения какой-либо информации в социальных сетях и средствах массовой коммуникации.
Изучение данного аспекта в рамках традиционного единственного подхода социологической, психологической или политической науки не будет являться полноценным. В силу этого авторы данной работы видят наиболее продуктивным использование совокупности научных знаний из обозначенных наук на стыке отраслей, связанных с конфликтами.
Так, в основе анализа этноконфессиональной напряженности лежат различные теоретические подходы к определению самого понятия этноса. В большинстве социологических подходов основное внимание уделяется понятию идентичности с определенной группой, хотя основания для выделения этой группы понимаются по-разному.
В рамках конструктивистского подхода этносы формируются в ходе деятельности людей и являются ее продуктами (конструктами). Среди этнических маркеров могут быть не только такие социальные признаки, как язык, религия и т.п., но и биологические, прежде всего физический облик человека. Согласно конструктивистскому подходу, этнос существует не столько объективно, сколько субъективно, поскольку конструируется общественным сознанием. Так считал и один из ведущих российских специалистов в области этнонаци-ональных отношений В.А. Тишков [Тишков 2001: 229]. Соответственно, связанные с конфликтами в этноконфессиональной области проблемы должны изучаться в рамках анализа специфики функционирования идентичностей с теми или иными группами и противопоставления «мы – они» как определенных социальных конструктов [Тихонова, Каравай 2019: 134].
Растущее недовольство в отношениях между различными социальными группами (или внутри одной группы) в современном социальном знании именуется социальной напряженностью [Гребенюк, Максимова, Лемэр 2021: 5]. А.В. Дмитриев понимает под ней негативное «эмоциональное состояние группы или общества в целом, вызванное давлением природной или социальной среды и продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени» [Михеев 2010: 208]. Можно говорить, что социальная напряженность является производным этноконфессиональной напряженности.
Возможным сценарием формирования ксенофобии среди молодежи является знакомство с иной культурной средой, прежде всего культурный шок в студенческой жизни, когда они сталкиваются с традициями иностранных студентов, которые им непонятны или раздражают их. Неготовность понять «чужого», малограмотность и незнание сложности религиозно-этнических процессов, нетерпимость, а также неадекватные действия инокультурных индивидов с позиций принимающей стороны или их агрессивные поведенческие стереотипы создают условия для формирования этноконфессиональной напряженности и праворадикальных установок.
Из интервью студента КФУ: «В общежитии в комнате я русский был один. Вообще у меня дома одни русские. И вот здесь, что я резко попал в другую культурную среду. Я вижу, что это все разное. Представители других народов, мы с ними везде различаемся: в поведении, общении, религии, традиции. Было сложно. Конечно, ребята хорошие, я до сих пор с ними связь поддерживаю, но не знаю. Не такой расизм, что всех резать надо, из страны выгонять. У меня есть друзья и евреи, и мусульмане. А большинство моих друзей из родного города, единомышленников, они вот таких правых взглядов придерживаются. И вот так за 4 года я стал постепенно к этому приходить. Даже, можно сказать, за 1–2 курс» (муж., 21 год, Казань).
Во многих исследованиях проблематика межгрупповых отношений, к которым относится и проблема этноконфессиональной напряженности, рассматривается с точки зрения психологического подхода, обычно через призму концепции социальной идентичности. В контексте данного подхода психологические процессы придают поведению групп некую уникальность, проявление которой становится заметным в этноцентризме и определенной одинаковости. Люди в целом склонны относить себя и окружающих к различным социальным категориям, таким как организация, религиозная община, пол или возрастная когорта [Блейк, Фред 2012: 5].
За последние годы в нашей стране с положительной стороны себя зарекомендовал сетевой подход в политической науке. Применение данной методики способствует изучению дискурса социальных сетей и средств массовой коммуникации для выявления этноконфессионального напряжения, как в нашем случае [Анализ социальных сетей... 2014].
Можно согласиться с научными подходами, интерпретирующими виртуальную идентичность в эпоху Web 2.0 как своеобразную проекцию реальной идентичности. С помощью сетевого подхода можно подвергнуть анализу социальные связи между пользователями и измерение их информационного влияния друг на друга, атрибутировать социально-демографические характеристики отдельных пользователей и формирующихся онлайн-сообществ, темы дискуссий и информационных сообщений, а также оценить информационное влияние с учетом информационных связей внутри формализованных и неформализованных сетевых групп по заданным параметрам [Попова, Суслов 2021: 161].
В нашем случае речь идет о словах-маркерах, вызывающих этноконфессио-нальную напряженность.
Быстрое развитие современного общества обозначается появлением и увеличением большого числа социальных противоречий, особенно в этноконфес-сиональной сфере. В силу того, что данные противоречия собирались продолжительное время, проявляться они начинают в виде конфликтных столкновений между различными этническими, а также конфессиональными группами, которые приводят к необратимым последствиям в виде многочисленных человеческих жертв.
Однако можно отслеживать и предотвращать нарастание конфликта, если уделять особое внимание некоторым источникам его появления (в частности, речь идет о социальных сетях и средствах массовой коммуникации).
Социальные сети в последние годы содержат уже свыше 70% информации, размещенной в интернет-пространстве [Попова, Суслов 2021: 166]. Так, социальные сети ВКонтакте и Telegram за счет относительной анонимности коммуникаций являются востребованной виртуальной площадкой в обмене ксе-нофобной информацией среди участников [Профилактика экстремистского... 2016: 85].
В Республике Татарстан этноконфессиональная напряженность присутствует прежде всего в группах псевдоисламской направленности. Типичным для этих групп является то, что светские инфоповоды игнорируются или даже осуждаются. Так, например, осуждался Чемпионат мира по футболу.
Цитата: «Любителям наслаждения от действий футболистов и довольства ими, я напомню о том, что имам Ахмад закрывал глаза при виде христиан»1.
Сугубо догматические группы, такие как, например, Ислам | Ахлю ас Сунна ва аль Джамаа | Мусульмане постепенно теряют своих подписчиков, или участ- ники уходят в более радикальные группы. Это связано со сложностью понимания богословских постов внутри таких сообществ1. В целом, в социальных сетях фундаменталистские сообщества сохраняют свои позиции, но для нетюркской молодежи разрабатываются сообщества с узнаваемыми уличными маскулинными профилями и хейтерской направленности. Данная ненависть направлена против современного социального порядка, который воспринимается негативно.
Со времени начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (вторая половина февраля 2022 г.) этноконфессиональный фактор, который может вызвать общественное напряжение, массовые протесты, столкновения с представителями органов правопорядка, требует еще большего внимания. Основным фактором, который влияет на формирование этно-конфессиональной напряженности в виртуальном пространстве, становится социальное неблагополучие, культурная маргинализация среды, личные материальные неурядицы потребителей такого контента, которым предлагаются ксенофобные практики назначения «врага» из представителей другой этнической группы или конфессии, ответственных «за наши беды».
Становится очевидным, что современные социальные процессы усложняются и ускоряются. Это ставит в уязвимое положение традиционные методы измерения напряженности и вынуждает искать новые инструменты идентификации и анализа данных социальных сетей и средств массовых коммуникаций. Перед научным сообществом стоит первостепенная задача разработки и применения новых подходов к изучению и анализу данных социальных сетей, что позволит составить достоверные прогнозы дальнейшего развития событий для органов управления, а также дать рекомендации по своевременному реагированию и предотвращению роста этноконфессиональной напряженности.
Статья подготовлена в рамках работы Школы молодого этнополитолога (проект Фонда президентских грантов № 21-2-00592).
Список литературы Концептуальные особенности этноконфессиональной напряженности в социальных сетях
- Анализ социальных сетей: методы и приложения (авт. колл.: А. Коршунов, И. Белобородов, Н. Бузун, В. Аванесов, Р. Пастухов, К. Чихрадзе, И. Козлов, А. Гомзин, И. Андрианов, А. Сысоев, С. Ипатов, И. Филоненко, К. Чуприна, Д. Турдаков, С. Кузнецов). 2014. - Труды Института системного программирования РАН. Т. 26. № 1. С. 439-456.
- Блейк Э., Фред М. 2012. Теория социальной идентичности в контексте организации. - Организационная психология. Т. 2. № 1. С. 4-27.
- Гребенюк А.А., Максимова А.С., Лемэр Л.Г. 2021. Исследование социальной напряженности на основе больших данных социальных сетей. - Цифровая социология. Т. 4. № 4. С. 4-12.
- Михеев И.В. 2010. Понятие социальной напряженности в отечественной и зарубежной социально-гуманитарной науке. - Вестник Казанского технологического университета. № 5. C. 206-212.
- Попова О.В., Суслов С.И. 2021. Сетевой анализ политических интернет-сообществ: от формализованных к "ненаблюдаемым" группам. - Политическая наука. № 1. С. 160-181.
- Профилактика экстремистского поведения молодежи в интернет-пространстве: традиционные и инновационные формы: учебно-методическое пособие (авт.-сост.: А.Г. Большаков, А.М. Межведилов, Е.А. Терешина и др.). 2016. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 138 с.
- Тихонова Н.Е., Каравай А.В. 2019. Этноконфессиональная напряженность в российском обществе: опыт эмпирической апробации методики измерения. - Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 4. С. 130-152.
- Тишков В.А. 2001. Этнос или этничность? - Этнология и политика. М.: Наука. С. 229-233.