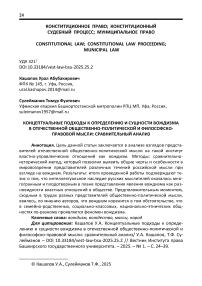Концептуальные подходы к определению и сущности вождизма в отечественной общественно-политической и философско-правовой мысли: сравнительный анализ
Автор: Кашапов У.А., Сулейманов Т.Ф.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право
Статья в выпуске: 1 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи заключается в анализе взглядов представителей отечественной общественно-политической мысли на такой институт властно-управленческих отношений как вождизм.
Вождизм, вождество, массы, народ
Короткий адрес: https://sciup.org/142245275
IDR: 142245275 | УДК: 321 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.25.2
Текст научной статьи Концептуальные подходы к определению и сущности вождизма в отечественной общественно-политической и философско-правовой мысли: сравнительный анализ
В области отечественных наук, таких как политология, философия, социальная психология, история и социология, особенно важным является анализ феномена вождизма. Пока будут существовать институты власти и управления, эта тематика будет вызывать непрестанный интерес. В связи с этим взгляды отечественных ученых на вождизм, хотя могут вызывать споры в академических кругах и выражаться субъективно, но с претензией на объективность, тем не менее имеют право на существование .
Авторы преследуют цель – дать обзор того, как в интеллектуальной среде, представленной различными мыслителями – от русского философа и рели- гиозного мыслителя С.Л. Франка до современников - изменялся образ вождя, символизировавшего властные структуры России в разных формах. Практическая задача авторов заключается в дополнении существующих материалов по данному вопросу (первая публикация - очерк, изданный за границей) для создания полноценной монографии.
С применением сравнительно-исторического метода были выделены общие и уникальные черты в развитии общественно-политической мысли о вождизме. Этот метод дал возможность выявить и сопоставить этапы эволюции объекта исследования, определить тенденции развития. Сравнительно-сопоставительный метод, как часть сравнительно-исторического, помог проанализировать природу вождизма; историко-типологическое сравнение взглядов объяснило аналогии и различия идейно-теоретических позиционирований авторов, обусловленные схожими условиями в российском политическом пространстве.
Значительный вклад в понимание вождизма внес С.Л. Франк, который отмечал, что необходимость в вожде возникает в условиях, где в обществе требуется не просто идейное руководство, а стремительное организующее воздействие. В таких случаях неизбежно возникает принцип единовластия. Франк подчеркивает единство происхождения всех монархий, основанное на наличии вождя - будь то военный лидер, организатор, спаситель или защитник общества. Однако философ указывает на отрицательную сторону явления: единовластный вождь, маскируясь под «представителя» и «уполномоченного» народа, в действительности становится его повелителем, поднимаясь на волне народных протестов и различных движений. Любое революционное движение против «деспотизма власти» неизбежно приводит к тому, что народ подчиняется воле вождя, который устанавливает еще более жесткое и неограниченное единовластие, чем предшествующее [2, с. 7]. Франк утверждает, что вождизм не может считаться наилучшей формой правления, так как признание однозначного государственного порядка является идолопоклонством [2, с. 8] и приводит к трагедиям, затрагивающим миллионы жизней и оказывающим разрушительное воздействие на все институты власти.
Итак, придавать вождю священный статус и поклоняться ему - это, по сути, идолопоклонство, которое, как свидетельствует история, приводит к трагическим последствиям, затрагивающим целые государства и уносящим миллионы жизней. Такой культ вождя ведет к полной атрофии всех властных институтов, которые начинают функционировать исключительно для исполнения волеизъявления тирана. В результате этого происходит утрата моральных и правовых основ в системе межличностных отношений, что приводит к - горькой драме народа [2, с. 9].
И. Ильин в своём произведении «Национальный вождь и партийные главари», которое стало частью сборника «Наши задачи (Статьи 1948-1954 гг.)», изданного в 1956 году, предлагает весьма оригинальное описание идеального лидера. Причиной написания данного текста стало убеждение Ильина в том, что в русской эмиграции политическое единство невозможно, так как люди ориентируются на интересы отдельных групп, игнорируя целостность, и ставят личные или партийные амбиции выше общенациональных задач [3, с. 33]. Он также отмечает, что этот настрой находит отражение в изобилии политических «вождей». Важно различать истинного национального вождя и партийных руководителей: национальный лидер — это одна фигура, в то время как число партийных вождей может быть бесконечным [3, с. 34].
Чтобы выделить лидера, он предлагает свою интерпретацию личности, которая на претендует на эту роль. По его мнению, для настоящего вождя характерно, что он «закаляется» в служении делу, проявляя волю, мужество и верность своей нации. Он наполнен духом коллективного бла га, а не личными или партийными интересами. Лидер сам принимает решения и движется вперёд, обладая политическим дальновидением и пониманием необходимых действий. Поэтому он не нуждается в идеологах для выработки программ. Оказавшись в одиночестве, он приступает к важному делу, не создавая партию, а действуя от имени высших ценностей. Вождь служит народу, а не строит карьеру; он борется, а не выступает на показ; поражает врагов, а не тратит слова на пустую болтовню; ведет, а не ищет покровительства у иностранцев. Он всегда предпочитает личные неудачи успехам, достигнутым предательскими путями. Таким был Корнилов. Таким был Врангель [3, с. 34].
Ильин дает резкую характеристику так называемым лидерам партий, которые впоследствии станут вождями (имея в виду Ленина): их интересует не судьба России - они заботятся лишь о себе. Ими движет негодование из-за вынужденного безделья в эмиграции, что наносит удар по их честолюбию. В результате этого у них начинается стремление «дучить» (от итальянского слова «дуче», что означает «вождь»). Им хочется «дучить» и управлять. Вынужденные «дучить», они находят одного-двух адъютантов, чтобы поддерживать свой авторитет. Их воля направлена не столько на борьбу, сколько на создание образа. Поскольку им не хватает способности к политическому творчеству, они приглашают «идеологов», разрабатывающих программу действий. Для войн требуется финансирование. Как его достать? Начинается торговля обещаниями: конфессиональными, янкменскими, демократическими, социалистическими и так далее -вплоть до тоталитарных и антисемитских, национал-социалистических, евразийских и других направлений [3, с.34].
Из приведённого текста явно вытекает, что речь идёт о портрете создателя первого в мире Советского социалистического государства, «Вождя мирового пролетариата» - В.И. Ленина, который успешно выполнил свою политическую задачу по завоеванию власти и оставил за собой создаваемое им государство с однопартийной системой, одной политической партией, которая позже стала известна как «ум, честь и совесть нашей эпохи».
В своей работе «Детская болезнь левизны в коммунизме», написанной в апреле 1920 года, Ленин теоретически обосновал идею вождизма. Он утверждал, что общество делится на классы, и в большинстве случаев управляющие элиты формируются из политических партий. Эти партии, в свою очередь, обычно возглавляются устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных и опытных личностей, занимающих ключевые позиции, которых принято называть вождями [4, с. 24].
Следует отметить, данный тезис В.И. Ленина впоследствии получил широкое распространение, что выразилось в множестве (число таких работ достигает десятки тысяч, если не сотни) как научных, так и публицистических произведений, которые, по сути, не подлежат точному учету. В качестве иллюстрации можно привести труд Г.А. Ашина, в котором вождь, согласно традиционной марксистко-ленинской концепции, ассоциируется с политическим лидером рабочего класса, осуществляющим стратегическое и тактическое руководство революционной борьбой пролетариата и народных масс, а также управление процесса создания бесклассового общества [5, с. 68].
По мнению О.В. Волобуева, вождизм как политическое явление обладает рядом характерных черт, которые можно проанализировать на примере В.И. Ленина. К ним относятся: уверенность в правильности и научной обоснованности марксизма, а также в верности своего, ленинского взгляда на революционное социалистическое учение; крайняя степень революционности, которую некоторые современники расценивали как бланкизм и якобинизм, а также необходимость ускоренных изменений (революционное нетерпение); убежденность в неизбежности и необходимости применения насилия и массового террора против всех, кого можно считать противниками революции и социализма; мессианское восприятие своего революционного назначения. Дополнительно, Волобуев приводит мнение В.И. Талина о Ленине, который, по словам последнего, обладал «тайной власти», был «тайновидцем власти», имел связь с её «святым духом» и сам был материализованным её духом.
Такому политическому явлению, как вождизм, характерны, по мнению О.В. Волобуева, следующие отличительные признаки, проецируемые на В.И. Ленина: убеждённость в правоте и научности марксизма и в правоте его собственной, ленинской интерпретации революционного социалистического учения; крайняя революционность (некоторые современники квалифицировали как бланкизм и якобинизм) и связанное с ней форсирование перемен (революционное нетерпение); вера в неизбежность и необходимость насилия и массового террора по отношению ко всем, кого можно причислить к врагам революции и социализма; мессианское отношение к своему революционному призванию [6, с. 833].Волобуев также приводит свидетельство В.И. Талина о Ленине, который к вышеназванным чертам добавляет: Ленин овладел тайной власти. Он тайновидец власти. Он сопричастен её святому духу. Он сам материализо- ванный её дух [6, с. 834]. Мы не можем не согласиться с ним, что названные черты были присущи многим большим и малым революционным вождям (Мао Цзедун, Энвер Ходжа, Ким Ир Сен и все последующие Кимы в Северной Корее – Ким Чен Ир, и ныне здравствующий – Ким Чен Ын [6, с. 834].
При анализе личности Ленина как вождя, стоит процитировать мнение Л.А. Андреевой, которая точно подчеркивает, что образ Ленина уже при его жизни начал приобретать черты сверхчеловека – божества с характерными признаками цикличности: мессианская цель – мучения ради народа – триумф, создающий новую общность – советский народ. В результате был сформирован квазирелигиозный культ Ленина как Отца Небесного. Затем эту «божественную» сущность унаследовал его преемник – Сталин, что отразилось в известной формуле: «Сталин – это сегодня Ленин». Андреева, описывая характер власти Сталина, отмечает, что пост лидера партии стал священным, объединяя функции идеолога и властителя. В России вновь возродилась наместническая власть. Коммунистический лидер должен был восприниматься как наместник нового Христа – Ленина [7, с. 244].
Советские лидеры постоянно учитывали религиозные чувства народа, опираясь на них и используя в своих интересах. С.Г. Кара-Мурза в своем произведении «Демонтаж народа» указывает на то, что даже под новой Советской властью религия играла роль некоего соединительного элемента в обществе. Он утверждает, что советский народ был сплочён сильными религиозными убеждениями, так же, как и русская революция, которая узаконила выход народа на историческую сцену. Религиозное чувство пронизывало как рабочих и крестьян, участвовавших в революции, так и интеллигенцию [8, с. 382]. Далее Кара-Мурза приводит слова Н. А. Бердяева, который утверждал, что социальные вопросы в России продолжали быть религиозными даже в условиях атеистического мышления. Русские атеисты, социалисты и анархисты, отражали дух нации, что прекрасно понимал Достоевский [8, с. 382–383]. Кроме того, он добавляет, что коммунистическая идеология того времени в России была в значительной степени верой, особой формой религии [8, с. 384]. Таким образом, можно сделать вывод, что основой советского вождизма всегда оставалась религиозная составляющая, поскольку лидеры использовали религиозные чувства населения для укрепления своей власти.
Учитывая вышеизложенное о том, что вождизм неразрывно связан с политической религией, которая, в свою очередь, включает в себя политическую мифологию, мы обратим внимание на труд А. Кольева под названием «Политическая мифология: Реализация социального опыта». В данной работе автор рассматривает вождизм как политическое явление, в значительной степени возникающее из политической мифологии. Анализируя суть вождизма, он выделяет несколько его характерных особенностей, включая следующие:
-
1. Относительная иррациональность по сравнению с массой является необходимым, но не единственным признаком вождя. Лишь вождь воплощает в
-
2. Вождизм существует в рамках коллективного бессознательного, которое принадлежит всему обществу. Чтобы политику обрести статус истинного вождя, необходимо определить его позицию в политическом контексте. Судьба избирает вождя среди тех, кто готов посвятить себя служению идее и обществу [9, с. 187].
-
3. Лидер, используя свои навыки внушения, максимально упрощает действия партии и масс, которые по своей сути остаются иррациональными. В то же время он требует жертв (финансовых, физических), отказа от контроля за действиями своих представителей (это дает им возможность для более быстрых управленческих решений), делегирования важнейших решений высшему руководству (это устраняет ненужные обсуждения и необходимость искать подтверждения правоты для различных участников с разнообразным уровнем интеллекта и мировоззрения), а также отказа от размышлений о символах единства (таких как лозунги, эмблемы, лидеры) и стандартизированных реакций, заданных вождем. Искусство вождя заключается в том, чтобы находиться в центре событий [9, с. 192].
-
4. Воля лидера к триумфу должна превалировать над рациональными аргументами и направлять их на выполнение внешне нелогичных задач. В противном случае он потеряет чувство настроения масс и способность интуитивно находить нужные слова или жесты – он станет лишенным магии символов и имен. Эта сила не может быть заменена никакими административными амбициями – правитель или вождь должен быть магом по своей сути. Каждый великий лидер – это фанатик, способный вдохновить массы своим энтузиазмом, уверенностью и преобладанием духа над разумом [9, с. 191].
-
5. Речь лидера должна быть сосредоточена на высших идеалах, но при этом вызывать у масс эмоции, связанные с их биологическими нуждами и исторической памятью, которые могут быть в данный момент неявными. Лидер не должен обращаться к разуму людей, а завоевывать их чувства — будь то любовь или ненависть, жажда мести или чувство вины. Вместо того, чтобы пробуждать интеллект, в политике необходимо активировать память и инстинкты. В этом и заключено основное магическое искусство лидера [9, с. 192–193].
-
6. Мифологические основания лидерства формируют следующее правило: доступность высказываний вождя и его указов должна сочетаться с элементом тайны, создавая определённую дистанцию, которая исключает фамильярное общение. Это отсекает тех, кто стремится ежедневно получать выгоды от действий вождя, желая считаться его сторонником или другом [9, с. 193].
себе коллектив, представляя собой концентрат толпы, отличающийся от нее твердостью и решимостью. Он дает возможность коллективному бессознател ь-ному обрести форму, идентифицироваться с ним и освобождает отдельных людей от чувства одиночества. По этой причине роль вождя сопровождается процессом перевоплощения, в ходе которого он забывает свои недостатки, тем самым сохраняя свою значимость для масс [9, с. 185].
Продолжая изучение вождизма и политической мифологии, В.С. Полосин в своей работе «Миф. Религия. Государство: исследование политической мифологии» подчеркивает, что создание мифа о вожде имеет целью внедрить в политическое сознание представление о его внутреннем предназначении, которое направлено на выполнение определенной государственно -образующей роли [10, с. 185]. Это предназначение, согласно автору, определяется множеством факторов, среди которых можно выделить борьбу с внутренними и внешними врагами, опыт как побед, так и поражений, глубокое понимание исторического контекста и дар предвидения. Таким образом, миф о вожде формируется не случайно, а на основе сложного взаимодействия различных исторических и социальных обстоятельств, которые усиливают его образ и легитимизируют власть.
В 13-й главе под заголовком «Сверхчеловек во главе государства» автор обсуждает, как индивидуальные личности соотносятся с мифическими образами. По его мнению, это отождествление чаще всего зависит от того, насколько публичные действия человека соответствуют его прототипу. Такое соответствие может быть достигнуто двумя способами:
-
1) непосредственно - когда общество фиксирует явный положительный результат усилий человека в реализации морального идеала, например, в случае победы, триумфа или осуществления предсказания. Эти аспекты подчеркивают, как важна оценка действий индивида обществом для его восприятия как символа идеала. Таким образом, отношения между реальными личностями и их мифологическими аналогами создают уникальные условия для лидерства и влияния на общественное мнение.
-
2) опосредованно - через ритуально-символическое вовлечение личности в соответствующий миф. В этом контексте недостаток индивидуальных достижений восполняется концепцией «honoris causa» - совокупностью всех положительных исторических результатов, которые приписываются индивиду благодаря его участию в политическом ритуале. Символика данного ритуала служит способом убеждения общественного сознания в том, что необходимо ассоциировать индивида с его мифическим предшественником, отмечая его приобретение характеристик этого прототипа и, следовательно, легитимизируя его власть [10, с. 186].
Природа вождизма была обсуждена на круглом столе под названием «Вождизм в современном мире», организованном редакцией научного журнала «Вестник анализа». В этом мероприятии приняли участие такие видные ученые, как A.A. Гусейнов, академик Российской академии наук и директор Института философии РАН, В.А. Луков, доктор философских наук, профессор и проректор по научной и издательской деятельности, а также директор Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, и П.С. Гуревич, доктор философских наук и профессор.
В интересующем нас политическом явлении - вождизме ими был выделен ряд присущих ему свойств.
Прежде всего, следует отметить, что «понятие вождя и вождизма является весьма неопределенным, как по составу охватываемых явлений, так и по их ценностным аспектам... Оно включает в себя имена и события, которые выделяются своей значимостью в историческом процессе и всегда ассоциируются с конкретными личностями». На основании этого утверждения можно сделать вывод, что «вряд ли возможно ограничивать феномен вождизма какой-либо определённой эпохой и рассматривать его как закономерное социальное явление», поскольку «вождь - это уникальное явление».
Во-вторых, для этого необходимы условия, такие как совпадение — наличие харизматической личности и значительного числа людей, готовых следовать за ней.
В-третьих, важно, чтобы с появлением человека, обладающего потенциалом возглавить какое-либо движение, возникла массовая потребность двигаться в его направлении.
В-четвертых, необходимо наличие уникальной исторической ситуации в жизни нации и общества, возникшей во время перехода от одного социального состояния к другому. Эта ситуация характеризуется кризисом устоявшихся форм жизни и функционирования, а также регулятивных механизмов общества, что приводит к деградации и хаосу, который сопровождается резким ухудшением жизненных условий.
Для данной исторической реальности, формирующей концепцию вождя и масс, характерна настоятельная необходимость в резком рывке, напряжении, экстраординарных усилиях для выхода из создавшейся ситуации. Эти усилия могут включать действия, которые, нарушая моральные нормы, сами по себе являются преступными и не поддаются даже маскировке под законные. Как правило, такие лидеры обладают способностью к подобным действиям, что позволяет рассматривать их и как тиранов, в контексте традиционного понимания этого термина, каждый раз представляющих собой нечто единственное».
В-пятых, концепция вождя и вождизма обладает высокой степенью неопределенности как в отношении охватываемых явлений, та к и в их ценностной значимости. Эта тема объединяет имена и события, которые выделяются своим значительным влиянием на исторические процессы и всегда связаны с конкретными личностями.
В-шестых, вождизм подразумевает существование крайне жесткой авторитарной и даже диктаторской политической структуры.
В-седьмых, характерной чертой вождизма является обязательная сакрализация вождя, то есть его обожествление и создание вокруг него священного ореола, что обычно инициируется самими вождями, а нередко и их сторон никами, но всегда с согласия первых. Это обосновывается тем, что такие действия, согласно их мнению, необходимы не столько им, сколько народу и широким массам. Это явление также связано с эксплуатированием религиозных чувств, которые характерны для граждан России.
В-восьмых, всем вождям было присуще представлять себя как мыслителей и основателей новых идеологических концепций.
В данном исследовании мы не будем углубляться в различные идеологические теории, выдвинутые теми или иными лидерами, поскольку это не является нашей основной целью и само по себе требует отдельного научного анализа. Вместо этого для примера мы кратко изложим взгляды Мао Цзэдуна, идеи которого были интегрированы в Устав Коммунистической партии Китая.
Ф.М. Бурлацкий, написавший отдельное исследование о Мао Цзэдуне, безусловно, являвшимся лидером, акцентирует внимание на том, что уже в 1945 году (до создания Китайской Народной Республики, состоявшегося в 1949 году) у него появились амбиции не только в качестве политического руководителя, но и как идеологического вождя, а точнее — как учителя в традиционном духе Китая. Он стремился к признанию своего непреложного идеологического авторитета [12, с. 90].
На VII съезде Коммунистической партии Китая, который прошел в 1945 году, было закреплено утверждение о том, что «идеи Мао Цзэдуна» составляют идеологическую основу партии… и впоследствии они стали главной направляющей силой КПК» (до 1976 года – Авт.) [12, с. 90].
Следует отметить, что еще в ноябре 1927 года на пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Мао подвергся критике за военный оппортунизм, который заключался в его убежденности в силе только военных методов и подготовки. На этом съезде было введено понятие «маоцзэдунизм», обозначающее новый курс, который охарактеризовали как «военный авантюризм» и «движение с оружием» [12, с. 31]. Не случайно Ф.М. Бурлацкий в заглавии своей работы о Мао отметил его слова: «наш коронный номер – это война» (как против собственного народа, так и с другими странами).
Говоря о насилии как о главном способе влияния на людей, стоит упомянуть, что в его взглядах оно было в первую очередь направлено против профессуры – образованных людей, что стало одной из ярких черт его интеллекта (Мао – авт.) [12, с. 19]. Бурлацкий полагает, что ненависть к интеллигенции является не только особенностью, но и идеологией Мао» [12, с. 19]. В 1935 году Мао стал лидером партии [12, с. 19] и, согласно свидетельствам делегатов VI съезда КПК, на VII съезде в 1945 году он был избран Председателем КПК [12, с. 53]. Работал его партийный принцип: «кто со мной согласен, тому место, кто не согласен, тот должен исчезнуть» [12, с. 41].
Бурлацкий указывает на то, что лидерство Мао неразрывно связано с синдромом величия, как на уровне нации, так и в плане личном [12, с. 135]. Это выражается в культе вождя, характерном для традиционного китайского мировоззрения [12, с. 136]. Он обладал выдающейся энергией проницательного ума, мастерством в групповых конфликтах, умел скрывать свои истинные намерения. Для него были характерны максимализм, импульсивность и пристрастие к «военным тактикам» и идеологическому вдохновению масс [12, с. 135]. Кроме того, Бурлацкий подчеркивает яркое проявление актерского мастерства Мао, который в каждом конкретном случае всегда демонстрировал наиболее подходящий облик. Он мог предстать перед окружающими и как простой, приветливый «товарищ», и как величественный, задумчивый мыслитель, отрешенный от повседневных забот. Особенно же ему нравилось создавать образ вождя, он мог часами находиться в кресле, не выдавая никаких эмоций, изображая погруженного в глубину государственных вопросов человека, не подверженного земным заботам [12, с. 72–73].
Все усилия были направлены на то, чтобы создать образ настоящего государственного деятеля Китая [11, с. 74], который был бы признан народом. Бурлацкий отметил, что подобная маскировка была характерна для всех вышеупомянутых лидеров. Он также отметил, что Мао уже задолго до того, как история дала ему возможность, играл роль националистического вождя и, когда наступил момент, он был готов занять свое место на исторической сцене [12, с. 74]. Однако, необходимо отметить, что сила Мао заключалась не только в его политических умениях, но и в его глубоком понимании психологии китайского народа, его обычаев и нравов. Это позволило ему легко манипулировать массами и получить их поддержку.
Особое внимание следует уделить отношению Мао к террору. Он считал, что террор не только необходим, но и является нормальным явлением в революционном процессе. Он утверждал, что в каждой деревне необходим кратковременный период террора, чтобы подавить деятельность контрреволюционных элементов. Мао считал, чтобы выпрямить, надо перегнуть; не перегнешь – не выпрямишь [12, с. 104]. Таким образом, он оправдывал жестокие методы борьбы за власть и считал их необходимым средством для достижения цели.
Ясно, что маоизм как политическая идеология, не только представляет собой теорию и практику Коммунистической партии Китая, но и систему мер по созданию культа личности вождя, периодического массового террора против собственных граждан, с целью поддержания их в постоянном страхе. Это также связано с величием Китая и шовинизмом [13]. Государственный террор, который стал официально принятым и оправданным во время Великой Французской революции, как заметил С.Г. Кара-Мурза, является средством психологического воздействия, главной целью которого является не жертва, а оставшиеся в живых люди [13, с. 171]. Основная цель террора и политических репрессий для Мао (в равной степени, как и для Сталина, Гитлера, Чаушеску и т.д. – Авт.) заключалась в установлении неограниченной власти, не подчиненной никаким нормам морали и права, кроме тех, которые они сами устанавливали для общества. Указывая на террор как неотъемлемый элемент правления вождей (Сталина, Гитлера, Мао и др.), нельзя не упомянуть высказывание М. Робеспьера о нем в речи от 5.02.1794 г. – террор является формой быстрой, строгой и неуклонной справедливости, тем самым он является проявлением добродете- ли [14, с. 338–339]. Это средство политического насилия и практики, которое применяется обязательно и в большом масштабе, и вожди оправдывают его как необходимую меру против своих политических противников, которые сопротивляются их власти.
Мао всегда стремился достичь уровня Конфуция и превзойти его в качестве великого китайского мыслителя. Он считал, что истинное и ложное являются противоположностями, и правильное может рождаться из ошибочного. Красота и безобразие также являются противоположностями, и без хороших людей не может быть плохих, а без плохих людей не может быть хороших [15, с. 294]. Мао также считал, что политические репрессии необходимы, и он высказывался о том, что лучше иметь поменьше совести в отношении буржуазии [12, с. 126] (он оказался одним из самых «способных» подражателей другого вождя - Сталина - авт.).
Вождизм присутствовал у руководителей в СССР, нацистской Германии и других странах, где процветало лидерство, которое формировалось под влиянием культурно-исторических, политических, национально-религиозных, психологических и других факторов. Также было отмечено, что вождизм сохраняется и в современных условиях, расширяя свою зону влияния за пределы политической сферы. Он стал неотъемлемой частью корпоративного управления и всегда был присутствующим в нем.
Среди современных исследований, посвященных феномену вождизма, нельзя не упомянуть работу М.А. Хевеши «Толпа, массы, политика: историко -философский очерк», в которой автор рассматривает вождизм через призму взаимодействия вождя и толпы. Анализируя природу вождизма как политического явления, она указывает на то, что он возникает в результате отсутствия контроля со стороны общества над властными институтами, и формулирует это следующим образом: «Вождь связан с массами благодаря власти, которая не подвергается контролю со стороны общества» [16, с. 2 06]
Работа В.Г. Пузикова и И.Н. Супарова «Вождизм как явление власти и форма политического существования в XX веке» представляет критерии, которые отражают следующие особенности вождизма:
-
- вождизм является массовым явлением, которое проистекает из воли и желания масс, несмотря на его строгую индивидуальность;
-
- вожди несут ответственность только за свои идеи и всегда готовы их воплощать, даже если они нереальны и утопичны;
-
- вожди часто используют милитаризацию общества, чтобы достичь своих целей;
-
- вожди всегда создают перспективу и направляют ход истории;
-
- действия вождей не подвергаются сомнению, критике или осуждению со стороны их сторонников;
-
- вожди находятся выше повседневных проблем и ситуаций, так как они пишут историю, которую будут пересматривать их критики;
-
- вожди обладают высоким интеллектом и не нуждаются в похвалах или почете;
-
- имя вождя имеет священный характер, так как его тайна освещена народом;
-
- вождь всегда является жертвой, прежде всего в историческом контексте [17, с. 15].
В книге Ф.М. Бурлацкого «Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них» рассматривается правление советских вождей (послесталин-ского периода) и их личностные характеристики, с которыми автор столкнулся, работая в качестве советника и непосредственно встречаясь с ними. Важно отметить, что все эти вожди пришли к власти после Сталина благодаря партийноаппаратной борьбе и из партийной номенклатуры, которую они, по меткому замечанию Г.Г. Дилигенского «постоянно сортировали, «перелопачивали», чтобы предотвратить возможность оппозиции» [19, с. 231].
В статье Л.А. Васильевой «Конструирование советского мифа вождизма и его транслирование каналами средств массовой информации» был подчеркнут важный аспект мифологизации образа вождя, особенно на примере пролетарских лидеров – В.И. Ленина и И.Ф. Сталина, которые были представлены как сверхлюди, почти богоподобные [20, с. 41–46].
В заключение отметим, что представленные взгляды авторов базируются или же на личных, пережитых ими самими, впечатлениях от наблюдений над проявлениями вождизма современных им политических деятелей или же на анализе, сделанных ими на страницах научных и публицистических работ. Несмотря на различные мировоззренческие установки, политические взгляды, предопределенные временем и личным мироощущением, авторы в целом сходятся на общих основаниях определения сущности вождизма, что делает их наблюдения ценностными ориентирами для дальнейшего исследования непреходящего в силу нынешних политических реалий социально-политического явления, каким является вождизм. В этом плане перед исследователями встают перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении не только в виду внешне изменчивых признаков вождизма (например, определяемый ныне как информационный авторитаризм), но и в силу неискоренимости его сущностных структур.