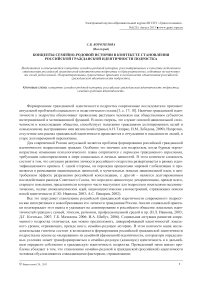Концепты семейно-родовой истории в контексте становления российской гражданской идентичности подростка
Автор: Воротилова Светлана Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: История, право, экономика
Статья в выпуске: 5 (25), 2013 года.
Бесплатный доступ
Выделяются и описываются концепты семейно-родовой истории, рассматриваемые в качестве источников становления российской гражданской идентичности подростка в образовательных событиях по изучению им своей родословной. Охарактеризованы сущностные признаки и особенности становления российской гражданской идентичности подростка
Концепты семейно-родовой истории, российская гражданская идентичность подростка, семейно-родовая идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14821967
IDR: 14821967
Текст научной статьи Концепты семейно-родовой истории в контексте становления российской гражданской идентичности подростка
Формирование гражданской идентичности подростка современные исследователи признают актуальной проблемой социального и педагогического плана [3, с. 17; 10]. Наличие гражданской идентичности у подростка обеспечивает проявление растущим человеком как общественным субъектом интеграционной и мотивационной функций. В свою очередь, это служит основой национальной сплоченности и консолидации общества, способствует полаганию гражданами долговременных целей и осмысленному выстраиванию ими жизни своей страны (А.Н. Татарко, Н.М. Лебедева, 2009). Напротив, отсутствие или распад гражданской идентичности проявляются в отчуждении и пассивности людей, в утере долговременной перспективы.
Для современной России актуальной является проблема формирования российской гражданской идентичности подрастающих граждан. Особенно это значимо для подростков, когда бурные нормовозрастные изменения психологического плана сопрягаются с периодом гражданского взросления, требующим самоопределения в мире социальных и личных ценностей. В этом контексте сложность состоит в том, что ситуация развития личности российского подростка развертывается в рамках идентификационного кризиса. С одной стороны, он порожден процессами мировой глобализации и проявляется в размывании национальных ценностей, в мучительных поисках национальной идеи, в центробежном эффекте разрушения российской консолидации, с другой – является долговременным последействием распада Советского Союза, что породило ценностную дезориентацию, прежде всего, старшего поколения, представители которого часто выступают для подростков носителями пессимистических, подчас апокалипсических идей, националистических умонастроений, отражающих поиски новой идентичности (С.Ю. Иванова, 2003; А.С. Панарин, 2002).
Все это затрудняет становление российской гражданской идентичности современного подростка как интегративного новообразования его личности гражданина России. Анализ социальной практики подтверждает этот вывод и указывает на доминирование в российском обществе локальных идентичностей граждан с семьей, этносом, регионом, профессиональной средой и пр. (Н.Л. Иванова, 2003; Д.Г. Когатько, 2007; Г.Б. Мазилова, 2006; И.А. Шибут, 2006). Социальная ситуация развития современного подростка отличается, как можно предположить, диверсификацией идентичностей локального уровня, отражающих, прежде всего, семейно-родовую историю. В этом контексте наша исследовательская гипотеза состоит в возможности формирования российской гражданской идентичности подростка на основе ее «вызревания» из семейной (фамильной) идентичности, которая при определенных условиях может трансформироваться в семейно-родовую (клановую) идентичность и в дальнейшем перерасти собственно в гражданскую идентичность подростка. Проведенный нами анализ проблемы убеждает в том, что становление семейно-родовой и гражданской (российской) идентичности человека обусловливается совпадающими факторами, отражающими:
-
а) общность исторического прошлого семей и страны в целом;
-
б) российскую «окраску» наименования граждан страны (россияне), интернациональный состав и федеративное устройство российского общества (россияне как интернациональная семья);
-
в) русский язык как средство коммуникации внутри общества, которое консолидируют пересекающиеся ценности и разделенные смыслы;
-
г) общая культура в разных аспектах (экономическая, политическая, правовая и т.д.);
-
д) общие эмоциональные переживания, связанные с реалиями гражданской общности и семейнородовых кланов в контексте отечественной истории.
По данным нашего исследования, «вызревание» российской гражданской идентичности подростка становится возможным при целенаправленном изучении им своей семейно-родовой истории. Иначе, как показано в социологических исследованиях (А.В. Микляева, П.В. Румянцева, 2008), фамильная и клановая идентичности, приобретаемые подростками в условиях естественных семейных отношений, но вне контекста истории Отечества, почти никогда не поднимаются до гражданского осмысления. В связи с этим изучение специфики семейной (фамильной) и семейно-родовой (клановой) идентичности представляет особый интерес.
Остановимся подробнее на результатах изучения семейно-родовой идентичности, в которых содержатся предпосылки нашего исследования. На основе обобщения имеющихся научных представлений отмечен существенный признак семейно-родовой идентичности. Он указывает на принадлежность индивидуума к определенному семейно-родовому клану и на соотнесение с собственным семейнородственным окружением. Семейно-родовая идентичность человека, в том числе подростка, проявляется в его родовом самосознании, когда он чувствует себя звеном в цепи поколений. Основой для этого выступают знания подростка о своем происхождении, о генетической и духовной преемственности, готовность к принятию ценностей семейно-родового опыта, а также намерение учитывать его при построении перспектив своей жизни.
Семейно-родовая идентичность как социальный феномен имеет в России глубокие исторические корни. Так, в дореволюционный период существовали социально неоднородные традиции ее становления, большая часть которых культивировалась в пределах семейно-родственного сообщества. Наиболее развитую культуру сохранения семейно-родовой памяти имело дворянское сословие. Основу для этого составляли сложившиеся в позднее Средневековье традиции местничества, при котором служебное положение каждого представителя рода зависело от социального статуса его предков. Позже, при Петре I, была заложена новая государственная система, просуществовавшая до 1917 г. она способствовала закреплению традиций сохранения истории рода и создавала благоприятные условия для становления семейно-родовой идентичности молодого поколения дворян.
Дворянские традиции сохранения семейно-родовой памяти в XIX – начале ХХ в. оказали глубокое влияние на развитие родословных традиций у образованной части представителей недворянских сословий. Импульс развитию интереса к знаниям родословия и формированию родового самосознания в XIX в. дало развитие генеалогии как науки. Однако большая часть традиций сохранения семейно-родовой памяти, а с ними и практик фамильного самоопределения, была утрачена в советский период российской истории.
В начале ХХ в. феномен семейно-родовой памяти впервые начал осмысливаться в педагогическом контексте (Л.М. Савёлов, А.К. Труш, П. Флоренский). В частности, разрабатываемая П. Флоренским «педагогика рода» обосновывала идею о необходимости генеалогического познания для формирования гражданских чувств человека. Она связывала воедино семейно-родовую и гражданскую идентичности (вне использования самого термина) как важные «точки опоры», необходимые для преодоления ощущения затерянности в мире, безродности и бесприютности. По мысли П. Флоренского, надо «чувствовать за собою прошлое, культуру, род, Родину; у кого нет рода, у того нет и Родины, и народа. Без генеалогии нет патриотизма, начинается космополитизм…» [9, с. 29].
В конце ΧΧ – начале ΧΧΙ в. возвращение к трудам П. Флоренского, забытым в советское время, стимулировало научное осмысление генеалогических знаний в духовном становлении человека а) философами (Г.М. Жвирблинская, В.И. Ксенофонтов, Л.Ю. Логунова); б) социологами (А.И. Баикина, Ю.О. Баикина, О.Б. Божков, И.А. Разумова, Е.Е. Сапогова); в) психологами (Н.П. Нефедьева, В.В. Нур-кова); г) педагогами (И.Н. Извеков, В.С. Мартышин, П.А. Свищёв). На основе изучения научных выводов, полученных названными авторами, мы выделили четыре группы концептов семейно-родовой истории. Они раскрывают смысловое содержание семейно-родовой идентичности, значимое в контексте становления российской гражданской идентичности подростка. Речь идет о создании контекста восприятия подростком истории своей семьи и своего клана как неотъемлемой части истории Отечества, включая героические и трагические события. Назовем выделенные концепты:
-
1) связанные с единым происхождением (персональные, географические, социальные, этнические, конфессиональные и культурологические аспекты: «Мы – потомки одного предка», «Мы – выходцы одной земли», «Мы – потомки российских дворян, крестьян, казаков и т.п.», «Мы – русские, украинцы, немцы и т.п.», «Мы – потомки разных народов России», «Мы – российские православные, католики, мусульмане и т.п.»);
-
2) связанные с персоналиями семейно-родственного клана в разных поколениях , основанные на а) кровно-генетической (внешние черты, или сходство / различие внешнего облика; природные задатки, способности); б) духовной (имя, в том числе мотивы имянаречения, перемена имени, отчества, фамилии; профессия / род занятий (традиции – новации), узловые этапы биографии, концентрирующие судьбоносные события личной жизни во взаимосвязи с историей семьи и страны; заслуги перед семьей и страной; характерные черты, моральные принципы и т.п.) преемственности;
-
3) связанные с семейно-родовыми артефактами, отражающими семейно-родовую и отечественную историю (раритеты, реликвии; предметы творчества; документальные материалы, в том числе официальные и неофициальные документы, включая воспоминания, дневники, переписку);
-
4) интегративные : а) родословные древа (с фиксацией значимой информации, повторов / совпадений значимых фактов); б) фамильная честь; в) семейные традиции.
Рассмотрим содержательный аспект названных концептов, раскрывающий их потенциал в становлении российской гражданской идентичности подростка. Так, потенциал, присущий концептам семейно-родовой истории, связанным с единым происхождением, порождается общностью начала родословной. Вслед за И.А. Разумовой [8, с. 187], мы полагаем, что родословное и/или семейно-биографическое повествование (автобиография) аккумулирует коллективную память, субъектом которой выступает родственная группа. Важно, что рассказчик (составитель семейного жизнеописания), ориентируя его на себя, позиционируется чаще всего как часть «родственного организма». И этот вывод представляется существенным в логике активизации семейно-родовой идентичности подростка.
В стихийно существующих и передаваемых из поколения в поколение семейных рассказах о происхождении могут иметь место более или менее подробные сведения как об отдельных, так и взаимосвязанных аспектах истории рода. На начальной стадии изучения подростками своей родословной эти аспекты представлены скудными, неясными и неконкретными сведениями. Однако они позволяют установить точку отсчета родовой памяти и, что самое ценное в плане становления идентичности, реконструировать при изучении истории рода образ жизни родоначальников, наполнив его реальным историческим содержанием. Это как раз и становится основанием для осознания личной причастности подростка к истории Отечества в лице своих родоначальников.
Концепты, связанные с персоналиями семейно-родственного клана в разных поколениях, в семейной истории являются «основной дискретной единицей в пространственно-временном континууме» (Там же, с. 227]. Так или иначе семейно-родовая история «сегментируется» на биографические описания отдельных родственников. В логике становления российской гражданской идентичности значимость биографий состоит в том, что каждая из них является вкладом в «групповой портрет общества, состоящий из неповторимых индивидуальностей, где каждый самоценен и значим» [7, с. 20–21]. Специфика био- графий состоит в слитности жизнеописаний членов семейно-родового сообщества. Это диктует необходимость учитывать прижизненные обстоятельства бытия каждого представителя рода в контексте влияний и преемственных связей поколений.
Любая биография, понимаемая как индивидуальный жизненный путь Другого, требует его представления в контексте эпохи и социальной среды, как «единственного и неповторимого и как часть суверенного целого – того времени и той среды, к которой он принадлежал» [7, с. 33]. В этой связи жизненный путь – это не только факты личной жизни и социального окружения, не только исторические события, в которых участвует персона, но и эмоциональные переживания, связанные с ними. Ибо, как отмечал Ю.М. Лотман (1985), тот, кто хочет изучать человека в истории, должен уметь анализировать исторические эмоции.
Потенциал изучения подростком биографий персоналий семейно-родового клана заключается в том, что такие жизнеописания рассматриваются как часть автобиографической памяти самого подростка, исследующего историю своего рода. В психологической литературе автобиографическая память как субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути наделяется свойством определять самоидентичность личности [5, с. 19]. Показателем становления семейно-родовой идентичности подростка является понимание им того, как исторические события отразились в автобиографии той или иной персоны, как траектория ее жизни сказалась на судьбах других членов семейно-родственного сообщества, в том числе и на судьбе подростка. В этом проявляется одна из функций автобиографической памяти, выделяемой психологами, – создание «концепций» своей судьбы, смысла жизни и личного предназначения (Там же, с. 73).
Концепты, связанные с семейно-родовыми артефактами, являясь источниками информации, обладают самостоятельным идентификационным ресурсом как вещи/документы, служившие предкам или являвшиеся творением их рук, а также как артефакты своей эпохи, культуры повседневности. Так, входящие в данный концепт реликвии (свято хранимая вещь, по С.И. Ожегову) имеют особое значение как воплощение идеи рода [8, с. 161–162].
Идентификационные ресурсы реликвии основываются на том, что она «как воплощение памяти отсылает к определенным периодам и фактам семейной истории в их ситуативно-событийном и эмоциональном содержании» (Там же, с. 169), поэтому для того чтобы эти ресурсы «заработали», необходимы посвящение в историю реликвии, знакомство с обстоятельствами ее существования в жизни семейно-родственного сообщества. Показ реликвии и рассказ о ней служат посвятительными действиями. По наблюдениям исследователей, реликвии обладают не только реальным бытием, но «идеальным бытием в памяти» [1, с. 12]. Утрата реликвии при сохранении памяти о ней продолжает служить моментом семейно-родовой идентификации.
Разные виды реликвий могут обладать разным импульсом в контексте становления гражданской идентичности. В работах И.А. Разумовой отмечается особая «идейность» профессиональных реликвий, которые создают основу сюжетов для воплощения «трудовых династий» [8, с. 168]. Велик потенциал реликвий, имеющих «внесемейную» значимость (подарки известных, исторических лиц представителям семейно-родственного сообщества), награды предков. Они составляют предметы особой гордости за деяния предков и повышают общий престиж семьи, показывают связь отдельного представителя рода с событиями большой истории, истории Родины.
Среди семейно-родовых артефактов велики идентификационные возможности фотодокументов семьи, которые основываются на способности фиксировать историческую и семейную действительность, восстанавливать историческую ретроспективу, вызывать эмоциональный отклик. В рамках нашего исследования в качестве средств формирования семейной и клановой идентичности рассматриваются как единичные фотографии, так и подборки фотографий персоналий рода, семейные альбомы. Парадные фотопортреты отдельных представителей рода являются своего рода «фамильными иконами» (П. Флоренский). Они помещаются на видных местах в семьях и служат воплощением семейных идеалов.
Подборки фотографий, отражающие жизнь отдельного представителя семейно-родового сообщества, одновременно являются самостоятельным комплексом источников для реконструкции биографии и средством идентификации для исследователя и информаторов, дающих свои комментарии в процессе сбора устных воспоминаний. Семейный альбом создает своего рода «виртуальное семейное сообщество», т.к. физически соединяет поколения родственников, не совпадавших в реальном времени. Фотоальбомы, содержащие фотоснимки «с сопутствующими знаками социальных достижений», увеличивают совокупный капитал общесемейного достоинства [6, с. 93–94].
Нам представляется продуктивным наблюдение В.В. Нурковой, отмечающей «избыточность» фотографии по сравнению с вербальным описанием того, что на ней изображено (Там же, с. 218). На фотоснимках запечатлевается фоновая информация, которая при изучении истории рода приобретает особый смысл. Она фиксирует существенные приметы времени, которые могут стать «мостиком» от семейно-родовой идентичности (на основе фиксации и принятия внешнего сходства) к гражданской идентичности (на основе фиксации исторической, социальной, духовной преемственности, общественного признания заслуг предков и т.п.).
В качестве концептов родства, обладающих значительным идентификационным ресурсом, выступают документы семейного архива. Документы личного происхождения, оседающие в семейных архивах, разнообразны по происхождению и содержащейся в них информации. Официальные личные документы, такие как метрические свидетельства, документы об образовании, наградные удостоверения, служебные характеристики, предписания и пр., задают социально-историческую «рамку» биографии предков. Неофициальные документы (письма, воспоминания, мемуары и т.п.), которым свойственна передача «действительности через субъективное восприятие», в большей степени раскрывают внутренний мир, менталитет, строй мыслей. Они позволяют «извлекать факты, через которые проявляются взгляды, уровень культуры, представить исторические события в совершенно новой, порой неожиданной интерпретации, давать более многокрасочное представление о жизни, воссоздавать ее в проявлениях обыденной идеологии, менталитета, духовной жизни» (В.В. Кабанов, 2004).
Помимо идентификационных возможностей документов личного происхождения, связанных с их содержательной стороной, они обладают потенциалом идентификации как семейные раритеты, как свидетельства ушедших исторических эпох. Именно последнее обстоятельство служит материальным подтверждением неразрывной связи истории семьи и истории Отечества. На этой основе формируются условия для трансформации семейно-родовой идентичности подростка в его гражданскую идентичность.
Интегративные концепты семейно-родовой истории обладают особым идентификационным потенциалом вследствие переосмысления разнопланового генеалогического материала: родословное древо, фамильная честь, семейные традиции. Так, идентификационные возможности родословного древа, являющегося визуальным образом семейно-родственного окружения, увеличиваются по мере накопления и «расположения» в поколениях фактического материала на древе. Это позволяет выделять повторы каких-либо явлений и событий в жизни предков в разных линиях и поколениях, тенденции развития ветвей рода в тех или иных аспектах (демографическом, социальном, антропонимическом, образовательном, аксиологическом, морально-этическом и т.п.). Особый интерес представляют факты участия предков в значимых событиях отечественной истории.
Интегративный концепт «фамильная честь» отражает социальную, конфессиональную, национальную укорененность рода. Антропонимический аспект фамилии отражает осведомленность о происхождении и функционировании семейно-родовых именований. Отношение к своей фамилии – «один из показателей социальной ориентации и культурных установок» [8, с. 202]. Помимо этого фамильная честь аккумулирует в себе духовный капитал семьи (ветви рода), складывающийся из заслуг и/или негативных поступков, наносящих урон общему достоянию каждого представителя семьи (ветви рода).
Идентичность, устанавливающаяся на основе концепта «фамильная честь», складывается из понимания исторических и социальных корней фамилии, из признания заслуг своих предков перед семь- ей (родом) и страной (Родиной). Она отражается в оценках, чувствах и переживаниях, признаниях и в собственной ответственности за общее фамильное достояние, совокупный вклад фамилии (в семейнородовом значении этого словосочетания) в историю и культуру Родины.
Интегративный концепт «семейные традиции» складывается из ритуалов, связанных с жизненными циклами представителей семейно-родственного клана (дни рождения, традиции имянаречения, празднование дней рождения и юбилеев, дни памяти, свадебные юбилеи и пр.), а также общественных, религиозных праздников и обрядов, которые «стали фактом приватной жизни и олицетворением «семейственности» [8, с. 24].
Традиции как нормы и правила жизни людей, передающиеся от поколения к поколению, историчны, складываются под воздействием нравственных принципов и носят рекомендательный характер для представителей семейно-родственного сообщества. Складывающаяся из поколения в поколение праздничная культура семьи формирует свой индивидуализированный «семейный календарь» (термин И.А. Разумовой), в который входят «даты событий частной жизни, связанные с персональными биографиями, профессиями, переездами, эмоционально пережитыми обстоятельствами» (Там же, с. 24–25).
Для подростков события «семейного календаря» носят характер посвящения, а для старших представителей семьи (рода) являются моментами подтверждения родственного единения, актуализации семейной памяти и необходимости приобщения к ней потомства. Осмысление подростками семейной, национальной (этнической), конфессиональной, исторической составляющих этих традиций является основой для становления их семейно-родовой идентичности и ее трансформации в гражданскую идентичность.
Значение рассмотренных концептов семейно-родовой истории мы связываем с тем, что характеристики каждого из них изоморфны составным компонентам российской гражданской идентичности подростка – когнитивному, аксиологическому, эмоциональному, деятельностному.
Когнитивный компонент включает знания о явлениях семейно-родового бытия – об особенностях социальных, этнических, конфессиональных и географических корней, о знаковых событиях / явлениях / фактах отечественной истории как судьбоносных для отдельных представителей семейно-родственного окружения. Этот компонент порождает первую сущностную характеристику российской гражданской идентичности подростка, основанную на родословном знании – осознании себя гражданином современной России, потомком и наследником граждан Российской империи и Советского Союза.
Аксиологический компонент отражает принятие ценности семьи, рода, родового опыта как опыта предков-граждан наследников культуры малой и большой Родины. Этот компонент порождает вторую сущностную характеристику российской гражданской идентичности подростка – установку на принятие ценностей культуры малой и большой Родины.
Эмоциональный компонент заключается в переживании чувства сопричастности к семейно-родовому сообществу, проявляющегося в гордости за заслуги предков, в уважении к семейно-родовому прошлому, к культуре народа (народов), из которого (которых) происходят предки, как основании для осознания своей генетической и духовной причастности к семейно-родственной общности. На базе этого компонента проявляется третья сущностная характеристика российской гражданской идентичности подростка – патриотическая направленность.
Деятельностный компонент заключает себе готовность к поступкам и действиям, направленным на присвоение, сохранение и обогащение семейно-родового опыта в семейно-родовой преемственности при руководстве заветами предков, участии в генеалогических проектах, предполагающих фиксацию и презентацию родословных. Это отражает четвертую сущностную характеристику российской гражданской идентичности подростка – установку на служение Родине – России.
В рамках педагогической системы, нацеленной на поддержку становления российской гражданской идентичности подростка, ведущей выступает проектно-исследовательская деятельность, которая предполагает накопление фактов семейно-родовой истории в контексте истории Отечества, осозна- ние подростком себя частью семейно-родового сообщества граждан России. Накопление фактов семейно-родовой истории, сопрягающейся с историей Отечества, создает предпосылки для осознания и принятия ценности семейно-родового опыта как опыта граждан своей страны, на основе которого формируется патриотическое миропонимание и созидательное поведение подростка как достойного представителя своего семейно-родового сообщества и гражданина своей страны, ответственно выбирающего свой жизненный путь.
Список литературы Концепты семейно-родовой истории в контексте становления российской гражданской идентичности подростка
- Акопян К.З. Бытие вещи в культуре//Вещь в контексте культуры: материалы науч. конф. СПб., 1994
- Божков О.Б. Родословные (генеалогические) деревья как объект социологического анализа//Социологический журнал. 1998. № 3-4
- Жвирблинская Г.М. Родовое основание социального и духовного становления человека. СПб.: Изд-во Политех.ун-та, 2008
- Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. М.: Изд-во УРАО, 2000
- Нуркова В.В. Зеркало с памятью: Феномен фотографии: Культурно-исторический анализ. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006
- Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801-1917 годов. СПб.: Изд-во «Logos», 2003
- Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М.: Индрик, 2001
- Флоренский П.А. Об историческом познании: в 4 т. М., 2000. Т. 3(2)
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования/М-во образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011