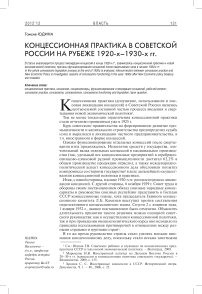Концессионная практика в советской России на рубеже 1920-х–1930-х гг
Автор: Юдина Таисия Васильевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс ликвидации концессий в конце 1920-х гг., взаимосвязь концессионной практики и новой экономической политики, причины функционирования концессий после слома нэпа в начале 1930-х гг.
Концессионная практика, концессии, концессионеры, рабочий вопрос
Короткий адрес: https://sciup.org/170166208
IDR: 170166208
Текст научной статьи Концессионная практика в советской России на рубеже 1920-х–1930-х гг
К онцессионная практика (допущение, использование и мас-совая ликвидация концессий) в Советской России являлась неотъемлемой составной частью процесса введения и свер-тывания новой экономической политики1.
Тем не менее тенденции ограничения концессионной практики стали отчетливо проявляться уже в 1925 г.
Курс советского правительства на форсированное развитие про -мышленности и капитального строительства предопределил судьбу нэпа и выразился в ликвидации частного предпринимательства, в т.ч. иностранного в форме концессий.
Однако функционирование отдельных концессий после сверты-вания нэпа продолжалось. Недостаток средств у государства, значительный вклад отдельных концессий в национальное производ ство (так, удельный вес концессионных предприятий в серебряно свинцово - цинковой рудной промышленности достигал 62,2% в общем производстве продукции отрасли), а также международно политический аспект концессионного дела обусловили попытку компромисса со стороны государства2 в деле дальнейшего осущест вления концессионной политики и практики.
Итак, с одной стороны, в конце 1920-х гг. усилился процесс ликви-дации концессий. С другой стороны, 6 ноября 1929 г. Совет труда и обороны своим постановлением обязал союзные народные комис сариаты и руководство союзных республик представить в Госплан СССР концессионные планы, хотя председатель Главного концес-сионного комитета Л.Б. Каменев выступил против составления перспективного концессионного плана. Спустя 2 с лишним года, 1 января 1932 г., данное постановление было отменено. Объяснить длительность принятия такого решения можно позицией совет ского руководства: как в осуществлении концессионной политики, так и при проведении внешнеполитического курса оно исходило из принципа использования противоречий в отношениях между раз ными странами и группами стран3.
В то же время руководство страны стало уделять меньше вни-мания концессионному делу, поскольку стали весьма заметными успехи в росте советской экономики, что позволяло сформировать мнение о воз -можности дальнейшего экономического развития без помощи концессионного капитала.
Многие концессии были ликвидиро-ваны по следующим причинам:
-
1) общий рост всех отраслей советского народного хозяйства привел к тому, что ряд концессий стали терять свое полумо нопольное положение на рынке и лиша лись возможности получения грандиоз ных прибылей;
-
2) ряд концессий стали уступать по своей технической основе советским мощным предприятиям, т.е. отставать от бурного экономического роста страны.
Поэтому мнение о ненужности концес-сий стало преобладающим. Такое же отри -цательное отношение сформировалось и по отношению к использованию ино -странных специалистов1.
Но, несмотря на свертывание концесси-онной политики и практики в СССР, данный процесс практически не коснулся японских концессий на Дальнем Востоке. Это объяс-няется значимостью политического аспекта концессионного дела: советское правитель ство активно использовало концессионную политику для решения вопросов взаимоот ношений с Японией. Одновременно изме-нения в советской концессионной политике сопровождались усилением ограничитель ного контроля за деятельностью японских концессий. Тем не менее последним годом существования концессий в СССР стал 1944 г., когда миновала угроза развязывания военных действий Японией.
Необходимость привлечения иностран ного капитала в форме концессий в конце 1920 - х гг. в различные отрасли совет -ского народного хозяйства также отстаи вали профработники деревообрабаты вающей промышленности. Например, на Всесоюзном совещании по работе на част ных и концессионных предприятиях 9—12 июля 1929 г. отмечалось: «...в лесной и деревообрабатывающей промышленности концессий было мало, ...Главконцесскому необходимо взять курс на привлечение их в данную промышленность. Главное же надо привлекать концессии не легкой индустрии, как гребеночные и пугович ные, а тяжелой индустрии, главным обра зом машинные»2.
Самым болезненным на оставшихся концессионных предприятиях в конце 1920-х — начале 1930-х гг. как для концес-сионеров, так и для органов власти являлся рабочий вопрос. На японских концессиях постоянно наблюдались трудности с най мом советской рабочей силы3, на других концессиях — нарушения концессионе-рами правил приема рабочей силы4.
Однако советские граждане, несмотря на свертывание концессионной прак тики, стремились попасть на работу на концессионные предприятия, в основном из за высоких заработков. Так, на немец кой концессии «Целлугал» за 1928/1929 г. средняя ежемесячная зарплата рабочих составила 193 руб. 24 коп., в августе— сентябре 1929 г. средний заработок рабо чих по сдельной оплате труда исчислялся в 247 руб. 34 коп., отдельные категории рабочих ежемесячно получали от 95 до 400 руб.5 На английской концессии «Лена Гольдфильдс» в январе—марте 1929 г. сред немесячная зарплата рабочих равнялась 100 руб. 08 коп.6 Высокая оплата труда наблюдалась и на других концессиях по сравнению с аналогичными государствен ными предприятиями7.
При этом производственный стаж и социальный состав советских концесси онных рабочих отличались разнообра зием. Например, на немецкой концессии «Целлугал» насчитывалось 38% рабочих с длительным производственным стажем; на польской концессии «Ченстоховская фабрика» числилось 45% впервые при нятых рабочих, на датской концессии «Винтер и Скоу-Кельдсен» — 37%. На датской концессии работали 59% рабо чих с высшим и средним образованием, среди них — 12% «бывших графинь и княгинь»; на «Ченстоховской фабрике» трудились «губернаторша, графиня, колчаковские офицеры», на фабрике «Целлугал» — «интеллигенция, барышни».
На австрийскую концессионную фабрику «Тифенбахер» в конце 1929 г. также привлекали представителей бывших дворян, заводчиков, домовладельцев. По этому поводу советские концессионные рабочие шутили: «Муж в Соловки, жена к Тифенбахеру»1.
Еще более высокие цифры впервые трудоустроенных граждан из имущих слоев дореволюционной России, работающих на концессиях, называли работники ЦК профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности: «…на концессионных предприятиях работает 60–70% ни разу не работавших до сих пор, выходцы из мелкобуржуазной среды»2.
Объясняя причины найма так называемых «бывших», представители власти и профсоюзов отмечали «сам уклад концессионных предприятий», позволявший концессионерам принимать на работу граждан, не имевших производственного стажа. «Классово-разношерстный состав» рабочих, «деклассирование рабочих из-за высоких заработков» явно не способствовали «устойчивости» концессионеров в советском народном хозяйстве на рубеже 1920-х–1930-х гг.
На отдельных концессиях органы власти и профсоюзы пытались регулировать рабочий состав. Например, на «Целлугале» во время сокращения рабочих в феврале– марте 1929 г. фабричный комитет принял решение «улучшить положение с социальным составом работающих». Однако попытки оказались безуспешными: среди рабочих продолжало насчитываться много образованных людей, которые с интересом читали газеты, произведения М. Горького, Д. Фурманова, Т. Драйзера и др., организовывали футбольные и баскетбольные соревнования, лекции, беседы, защищали свои права и интересы предпринимателей.
Примечательно, что при отстаивании прав концессионеров советскими концессионными рабочими в период массовой ликвидации концессий последних обвиняли в принадлежности к «бывшим». Например, когда профработники Ленинградского областного отдела профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности предъявили концессионеру «Ченстоховская фабрика» целый ряд требований, рабочие написали заявление в профсоюз, что «хозяин на предприятии хороший, и союз зря хлопочет». Резолюция профработников была краткой: «Ясно, какого сорта рабочие писали это заявление»3.
При массовой ликвидации концессий на оставшихся предприятиях органы власти обращали внимание не только на социальный, но и на национальный состав советских концессионных рабочих, отмечая проявление антисемитизма на фабриках («Тифенбахер» – «если человек с черными волосами, то это жид», «Целлугал» – «здесь хозяин еврей, и мы [рабочие] поэтому будем хорошо работать»). На концессиях наблюдались ссоры, драки, которые заканчивались «избиением евреев»4, однако конкретных мер по устранению подобных конфликтов власть не принимала, так же как и перестала регулировать вопросы с концессионером «Лена Гольдфильдс» по выплате заработной платы: 27 мая 1930 г. бастовали 800 рабочих Ревдинских заводов, 914 рабочих и служащих Дегтяринских рудников, 90 рабочих Северских железных рудников. Рабочие организовали забастовки 1 июня, 9 августа 1930 г. Не получая заработную плату, рабочие стали требовать от советских органов власти перевода на государственные предприятия, массово увольняться.
Бесспорно, на рубеже 1920-х–1930-х гг. к ликвидации иностранного капитала, в т.ч. и концессий и концессионной практики, привело укрепление советского народного хозяйства, а также незаинтересованность власти в судьбе советских концессионных рабочих – представителей бывших привилегированных слоев российского населения. Ускоренная ликвидация концессионных предприятий, быстрое сокращение частного капитала в советской экономике на рубеже 1920-х–1930-х гг. явились закономерной тенденцией, функционирование же отдельных концессионных предприятий в 1930-е гг. обусловливалось внутриполитическими причинами и внешнеполитическими событиями.