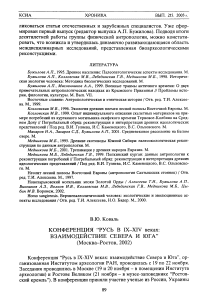Конференция «Русь в IX-XIV веках: взаимодействие Севера и Юга» (Москва-Ростов, 2002)
Автор: В.Ю. Коваль
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Хроника
Статья в выпуске: 215, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/143183892
IDR: 143183892
Текст статьи Конференция «Русь в IX-XIV веках: взаимодействие Севера и Юга» (Москва-Ростов, 2002)
КСИА
ХРОНИКА
ВЫП. 215. 2003 г.
ликоваться статьи отечественных и зарубежных специалистов. Уже сформирован первый выпуск (редактор выпуска А.П. Бужилова). Подводя итоги десятилетней работы группы физической антропологии, можно констатировать, что возникла и утвердилась динамично развивающающаяся область междисцилинарных исследований, представленная биоархеологическими реконстукциями.
Бужилова А.П., 1995. Древнее население: Палеопатологические аспекты исследования. М.
Бужилова А.П., Козловская М.В., Лебединская Г.В., Медникова М.Б., 1998. Историческая экология человека: Методика биологических исследований. М.
Бужилова А.П., Масленников А.А., 1999. Военные травмы античного времени: О двух примечательных антропологических находках из Крымского Приазовья // Проблемы истории, филологии, культуры. М. Вып. VII.
Восточные славяне: Антропологическая и этническая история / Отв. ред. Т.И. Алексеева. М., 1999.
Козловская М.В., 1996. Экология древних племен лесной полосы Восточной Европы. М.
Козловская М.В., 1999. Опыт индивидуального описания скелетных материалов на примере погребений из курганного могильника скифского времени Терновое-Колбино на Среднем Дону // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений / Под ред. В.И. Гуляева, И.С. Каменецкого, В.С. Ольховского. М.
Макаров Н.А., Захаров СЛ-, Бужилова А.П., 2001. Средневековое расселение на Белом озере. М.
Медникова М.Б., 1995. Древние скотоводы Южной Сибири: палеоэкологическая реконструкция по данным антропологии. М.
Медникова М.Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.
Медникова М.Б., Лебединская Г.В., 1999. Пепкинский курган: данные антропологии к реконструкции погребений // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений / Под ред. В.И. Гуляева, И.С. Каменецкого, В.С. Ольховского. М.
Неолит лесной полосы Восточной Европы (антропология Сахтышских стоянок) / Отв. ред. Т.И. Алексеева. М., 1997.
Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды / Алексеева Т.И., Бужилова А.П., Винников А.З., Волков И.В., Козловская М.В., Лебединская Г.В., Медникова М.Б., Цыбин М.В. Воронеж, 2002.
Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования / Отв. ред. Т.И. Алексеева, Н.О. Бадер. М., 2000.
В.Ю. Коваль
КОНФЕРЕНЦИЯ “РУСЬ В IX-XIV веках: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕВЕРА И ЮГА” (Москва-Ростов, 2002)
Конференция “Русь в IX-XIV веках: взаимодействие Севера и Юга”, организованная Институтом археологии РАН, проводилась с 19 по 22 ноября. Заседания проводились в Москве (19 и 20 ноября - в помещении Института археологии) и Ростове Великом (21 ноября - в музее-заповеднике “Ростовский кремль”). В конференции приняли участие ученые из России, Украины и Белоруссии - специалисты в различных областях средневековой археологии. Проведение этого международного форума оказалось возможным благодаря финансовой поддержке РГНФ (проект № 02-01-14045г). Необходимость коллективного обсуждения проблемы взаимоотношений северной и южной частей древнерусского государства была продиктована накоплением нового фактического материала в результате масштабных работ последнего десятилетия и разработкой различных, зачастую трудносовместимых, гипотез о путях формирования общедревнерусского единства. “Киевоцентрическая” модель развития средневековой русской государственности и культуры совмещается сегодня со “скандинавской” моделью, возрождающей отчасти старую историографическую традицию. Противоречивые тенденции торгово-экономического взаимодействия и политической конкуренции городских центров обеих областей, противостояния и глубокого взаимопроникновения северных и южных культурных традиций - одно из важнейших явлений, характеризующих развитие Древней Руси в IX-XIV вв. За время работы конференции были заслушаны и обсуждены 30 докладов. Тезисы 25 докладов, представленные авторами, были опубликованы к началу конференции.
Конференцию открыл член-кор. РАН Н.А. Макаров докладом “Север и Юг Древней Руси в X - первой половине XIII в.: факторы консолидации и обособления”, в котором было подчеркнуто исключительное значение данной проблемы для понимания общего хода культурной истории в Восточной Европе в средневековье. Указав на основные черты различия в материальной культуре северных и южных областей (в конструкции жилищ, типах пахотных орудий, денежно-весовых системах), докладчик обратил внимание на ряд различий, которые обычно остаются незамеченными: относительную редкость на Севере укрепленных поселений и значительно более высокую плотность населения на Юге, более высокую покупательную способность средневекового населения на Севере и тенденцию к накоплению сокровищ среди элиты на Юге. Все эти различия, однако, не мешали процессу интеграции восточного славянства, проходившему в значительной мере под влиянием материальной культуры Среднего Приднепровья. Не случайно именно вещи “южных типов” воспринимались северянами в качестве значимых маркеров общерусской идентичности. Важным фактором, обеспечивавшим как единство северной и южной зон Руси, так и их размежевание, была названа торговля с Византией и Западной Европой. Докладчиком была особо отмечена сложность региональной атрибуции целого ряда восточнославянских древностей для решения поставленной проблемы.
В докладе А.В. Чернецова, заведующего отделом славяно-русской археологии ИА РАН, “Взаимодействие Севера и Юга Древней Руси: к постановке проблемы” отмечалось, что противопоставление Севера и Юга Руси во многом обязано историографической традиции, связанной с идеологической борьбой в России в XIX-XX вв. (“норманизм” и последующий его “разгром”, “украинофильство” и близкие ему взгляды Б.А. Рыбакова). Современные исследования позволяют стирать многие грани между северными и южными областями Руси, которые ранее рассматривались в качестве их коренных отличий (распространение вечевого строя, практики полюдья). Кон- статирована неубедительность разграничения Руси по экономическим и этнографическим признакам. Очевидными историко-географическими факторами различия названы при этом разница в плодородии почв и близость Южной Руси к Византийской империи.
М.А. Сагайдак (Киев), выступивший с докладом “О некоторых признаках раннего города: сравнительный анализ (Север-Юг)”, указал на то, что утвердившаяся в исследованиях второй половины XX в. схема развития древнерусского города как центра сельскохозяйственной округи, со стандартным трехчастным делением (детинец - окольный город - посад), оказывается далеко не обязательной и приложимой не ко всем (прежде всего, ранним) городским образованиям. Как показали исследования в Киеве, этот город также не вписывается в данную схему, поскольку средоточием его экономической жизни с конца IX в. был неукрепленный Подол, тогда как на Старокиевской горе в это и последующее время существовало лишь небольшое по площади укрепление и обширный курганный могильник.
В докладе Г.Ю. Ивакина (Киев) “Погребения X-XI вв. из раскопок Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве (1996-1997 гг.)” на основании вновь полученных данных был охарактеризован курганный могильник, размещавшийся на Старокиевской горе (на территории будущих “города Владимира” и “города Ярослава”, площадь которого достигала 60 га. Отмечено, что этот могильник мог быть оставлен только населением многолюдного Подола, а никак не ограниченного по площади укрепления на Замковой горе. Были представлены интересные материалы комплексов из камерных погребений второй половины X в.
В.Н. Зоценко (Киев) в докладе “Скандинавские древности Киева IX-XI вв.” отметил, что курганный могильник на Старокиевской горе возник на месте заброшенного более раннего поселения. Материалы этого могильника включают заметное количество скандинавских изделий, в том числе этноопределяющих женских украшений, свидетельствующих об участии выходцев из Скандинавии в формировании населения раннего Киева.
Доклад Л.В. Колединского (Минск) “Городская культура Белоруссии X-XIV вв.: традиции и инновации” был посвящен характеристике и периодизации материальной культуры западнорусских городов. Отмечен вклад мигрантов из Скандинавии и Польши в производство вооружения, украшений и бытовых предметов. В отличие от северных и западных традиций, византийское влияние коснулось в основном сферы элитарной культуры. По мнению докладчика, с XIV в. наиболее значимым фактором культурных инноваций становится западноевропейское влияние.
С большим интересом был встречен доклад Н.В. Ениосовой и Т.Г. Сара-чевой (Москва) “Пути поступления ювелирного сырья на Север и Юг Древней Руси в IX-XI вв.”, основывавшийся на серии химических анализов образцов цветного металла с территории Восточной Европы. Изучение этого корпуса материалов позволило докладчикам прийти к выводу о различных источниках поступления сырья для ювелирного производства в Северную и Южную Русь. Северная Русь использовала латуни (сплавы с цинком), поступавшие сюда из Центральной Европы, тогда как в Южной Руси применялись многокомпонентные сплавы из лома цветных металлов. Сюда могли вво- зиться также бронзы из Великоморавского региона. Анализы подтвердили давнюю гипотезу об арабских дирхемах как основном источнике серебра для ювелирного производства Восточной Европы VIII-X вв.
В.Ю. Коваль (Москва) в докладе “Византийская керамика в средневековой Руси” представил сводку находок около 100 образцов поливной византийской керамики, известных сегодня на территории Руси. Было отмечено, что на протяжении всей истории русско-византийских связей поливная посуда составляла предмет роскоши, доступный лишь представителям привилегированных сословий (аристократии, купечеству) и церкви. В X-XI вв. эта керамика проникала на Русь по Днепровско-Балтийскому пути, в ХП-ХШ вв. она поступала в крупнейшие города - центры земель и княжеств, независимо от их географического размещения.
В докладе В.П. Коваленко (Чернигов) “Чернигов и Шестовицы” были освещены результаты новейших исследований на комплексе памятников у села Шестовицы, являвшегося военно-дружинным поселением, осуществлявшим в X в. контроль со стороны великокняжеской администрации за Черниговом, выступавшим в качестве торгового и политического конкурента Киева. Неоднократные пожары на этом поселении свидетельствуют о напряженной обстановке, в которой проходило его функционирование.
М.И. Гоняный (Москва) в докладе “Тюркские элементы в материальной культуре древнерусского населения конца XII - третьей четверти XIV в. района Куликова поля на Верхнем Дону (на примере украшений ременной гарнитуры)” дал сводку находок ременных украшений из верхнедонского региона. Среди изделий домонгольского периода были встречены несколько накладок, которые, по мнению докладчика, имеют аналогии в аскизской культуре средневековой Хакассии. Большинство находок “аскизского” облика относилось к золотоордынской эпохе, что связывается с усилением связей Руси с Поволжьем и, прежде всего, с Волжской Болгарией, где подобные накладки изготавливались массовыми сериями.
Доклад Б.А. Звиздецкого (Киев) “Курганы с каменными обкладками на Овручском кряже” был посвящен итогам раскопок курганов с кольцевыми каменными обкладками на Житомирщине. По мысли докладчика, такие курганы могли принадлежать потомкам славянизированных ятвягов из Бе-рестейского Побужья, переселенных в бывшую древлянскую землю после похода Владимира Святославича на ятвягов в 983 г.
С докладом “К изучению южнорусских “змиевых валов” выступил Ю.Ю. Моргунов (Москва), пришедший к выводу об участии в строительстве этих фортификационных сооружений западнославянских контингентов, появление которых связывается с походом Владимира Святославича на Чер-венские города в 981 г. Свидетельством западного влияния расценивается использование при сооружении части стен (остатками которых и являются нынешние валы) перекладной техники, широко применявшейся, например, в Польше.
Из совместного доклада В.М. Буланкина и В.В. Судакова (Рязань) “К вопросу о начальном этапе славянского расселения в Среднем Поочье” стали видны результаты масштабных исследований в Рязанском Поочье, где удалось обнаружить ряд поселений с лепной керамикой, родственной керамике ромейской и боршевской культур, а также керамике типа Луки-Райковец-кой, датированных IX-X вв. Раскопки на Дураковском III селище подтвердили выводы о хронологии этих памятников. Новые данные позволяют лучше понять процесс славянского расселения на юго-восточной окраине восточнославянского ареала.
В.В. Седов (Москва) в докладе “Предыстория северновеликорусов” соотнес начало диалектного деления великорусов на северную и южную ветви с известными по археологическим данным вариантами пшеворской культуры, связываемой докладчиком с венетами и склавинами ранневизантийских хроник. Для восточнославянского региона была предложена граница между северным и южным регионами, базирующаяся на известных диалектных различиях и разнице в материальной культуре (в том числе, прослеживаемой по ареалам наземных жилищ и полуземлянок, подковообразных фибул и коньковых подвесок).
Выступление В.Я. Петрухина (Москва) “Варяги и хазары в начальной истории Руси” было посвящено краткому обзору истории Восточной Европы в IX-X вв. на фоне взаимоотношений северной части восточнославянских племен со скандинавами, а южной их ветви - с хазарами. Кризис поступления восточного серебра в Восточную и Северную Европу в конце IX в. докладчик связал с захватом Киева Олегом и установлением Хазарией торговой блокады новообразовавшейся Руси.
Доклад И.В. Ислановой (Москва), Е.Ю. Крымова (Тверь) и В.В. Романова (Дубна) “Варяги на Верхней Волге (новые находки)” имел целью ввести в научный оборот ряд малоизвестных находок скандинавских древностей X в., происходящих из сборов подъемного материала на памятниках Верхневолжья (район Ржева - Рыбинска) и хранящихся в музее города Дубны.
В докладе В.В. Мурашовой (Москва) “Супрутский клад 1969 года (к вопросу о хазарско-скандинавском взаимодействии на территории Древней Руси)” исследовался уникальный комплекс снаряжения всадника, найденный на городище Супруты в Тульской области, включавший как предметы скандинавского происхождения, так и вещи хазарского круга древностей.
Доклад И.И. Мовчана и М.М. Иевлева (Киев) “Новые данные о дружинном некрополе древнего Киева” обрисовал современную ситуацию в изучении курганного могильника IX-XI вв. на Старокиевской горе. Одной из последних находок стало дружинное погребение, датированное по имевшимся в нем херсоно-византийским монетам 30-ми годами X в. Установлено, что “город Владимира” возник на месте, занятом прежде курганным могильником. Впоследствии могильник размещался на территории будущего “города Ярослава”.
К.А. Михайлов (Санкт-Петербург) в докладе “Развитие древнерусской поясной гарнитуры в XI в. (по материалам поясов “новгородского” типа)” выдвинул гипотезу о южнорусском (киевском?) происхождении ряда накладок, входивших в состав поясов XI в., известных по материалам Готланда, Швеции и Финляндии. Проникновение в Скандинавию русской поясной гарнитуры связывается со шведами, служившими наемниками на Руси.
В докладе Н.В. Жилиной (Москва) “Региональные различия в русской филиграни” был сделан вывод о продолжении традиций киевской школы филиграни в столичных центрах Северо-Восточной Руси ХП-ХШ вв. (Рязань, Владимир). Особенностью новых центров, возвысившихся в XIV в. (Москва, Тверь), была консервация достижений ювелирного искусства пред-монгольской эпохи.
Основываясь на ряде новых находок, Б.А. Мазуров (Коломна) в докладе “Древнерусские кресты-энколпионы ХП-ХШ вв. из Коломны” высказал предположение о передвижении в это время части южнорусского населения на Северо-Восток и, в том числе, в рязанские земли. С этим движением связываются находки крестов киевского происхождения и их местные копии.
Доклад А.В. Энговатовой, О.В. Орфинской и В.П. Голикова (Москва) был посвящен находке в 2001 г. в подмосковном городе Дмитрове нескольких погребений домонгольского времени с сохранившимися фрагментами тканей византийского и китайского происхождения и золототканой тесьмы средиземноморского производства (Византия или Испания).
И.Е. Зайцева (Москва) в докладе “Традиции Северной и Южной Руси в ювелирном деле Серенска” пришла к выводу о применении мастерами провинциальных центров литейных форм, изготовленных в Киеве профессионалами высокого класса. Отмечено присутствие в Серенске мастеров из северных районов Руси, что связывается с княжением Михаила Всеволодовича Черниговского в Новгороде.
С докладом “Кузнечное ремесло столицы и периферии (Рязань и Рости-славль Рязанский)” выступил В.И. Завьялов (Москва). Металлографический анализ изделий из железа и стали, найденных в Старой Рязани и окраинном городе Рязанской земли Ростиславле, позволил исследователю заключить, что при общей близости технологических приемов, уровень мастерства у ремесленников столицы был несколько выше.
В докладе В.Я. Конецкого (Великий Новгород) “Укрепления Малышев-ского городища в контексте культурных связей Севера и Юга Руси” рассматривалась фортификация городища X в. в бассейне средней Меты. Раскопки вала городища показали, что он являлся остатками стены, состоявшей из полых клетей, не засыпанных грунтом. Такие укрепления, известные в Южной Руси, на территории Новгородской земли встречены впервые. Появление их здесь связывается докладчиком с возникновением системы погостов, организованных администрацией киевских князей (поход княгини Ольги 967 г.).
С.З. Чернов (Москва) в докладе “Сфрагистический комплекс из Могуто-ва и его значение для предыстории Московской земли в первой половине XII века” рассказал об уникальном комплексе из 16 вислых свинцовых печатей и 12 свинцовых пломб XI-XII вв., найденных коллекционером на селище-посаде у Могутовского городища, идентифицируемого с волостным центром Шерна. Присутствие среди них печатей новгородских князей, по версии докладчика, может свидетельствовать о принадлежности Шерны Новгороду до середины XII в.
А.Е. Леонтьев и Л.С. Розанова (Москва) в докладе “Ножи из Ростова Великого: к вопросу о различии производственных традиций в железообрабатывающем производстве городов на Севере и Юге Руси в домонгольский период” пришли к выводу о развитии железообрабатывающего ремесла Ростова в русле традиции, характерной для северного региона Руси (доминиро- вание ножей, изготовленных по технологии 3-5-слойного пакета). При этом, в XIII в. отмечено развитие наварных технологий, т.е. общерусского направления в эволюции кузнечного ремесла.
В докладе П.Д. Малыгина (Тверь) «“Ярославовы грамоты”: грамоты южных или северных князей?» была предпринята попытка критического разбора устоявшейся интерпретации “Ярославовых грамот”, фигурировавших в договорах Новгорода с великими князьями Владимирскими золотоордынской эпохи, как документов времен Ярослава Мудрого.
Н.А. Тропин (Елец) в докладе “Южные земли чернигово-рязанского по-рубежья в XI-XV вв.: формирование региона” высказал предположение о прохождении границы между Рязанским и Черниговским княжествами по Дону. Исследованный регион на правобережье Верхнего Дона (Елецкая земля) формировался, по мнению докладчика, в составе Черниговского княжества, о чем свидетельствуют ярко выраженные южнорусские традиции в материальной культуре.
А.В. Петраускас (Киев), выступивший с докладом “Охота в структуре хозяйствования Киевской Руси”, привел статистические данные, свидетельствующие о том, что наивысший показатель остеологических останков диких животных фиксируется в детинцах древнерусских городов, а самый низкий - на селищах. Отсутствие в остеологических комплексах костей белки, соболя и некоторых других объясняется докладчиком особенностями ареалов их обитания и религиозными запретами на употребление в пищу мяса отдельных видов животных.
В ходе работы конференции возникали дискуссии по вопросам, на которые у исследователей имелись различные точки зрения. Так, В.В. Седов высказал предположение о том, что в VIII - первой половине IX в. торговля славян с Востоком осуществлялась без участия скандинавов, т.е. напрямую с караванами восточных купцов. Внедрение же варягов в эту торговлю началось лишь с 860-х годов. В противовес этому мнению, В.Я. Петрухин отметил, что арабские монеты из кладов на Руси и Скандинавии представлены одинаковыми типами, что свидетельствует о продвижении этих монет в Скандинавию с самого начала восточной торговли. К.А. Михайлов обратил внимание собравшихся на то, что решение этой и других подобных проблем затруднено дефицитом надежно датированных комплексов IX в. при наличии большого числа комплексов X в., причем для последних единственным датирующим материалом остаются скандинавские древности. В дискуссиях принимали также участие Г.Ю. Ивакин, Б.А. Звиздецкий и Ю.Ю. Моргунов.
При подведении итогов конференции В.П. Коваленко высказал благодарность от лица зарубежных участников конференции в адрес Российского гуманитарного научного фонда, благодаря финансовой поддержке которого удалось провести столь представительный форум исследователей.
В заключительном слове Н,А. Макаров подчеркнул, что в результате работы конференции начала складываться глобальная картина взаимодействия Севера и Юга Руси, при том, что не были обойдены вниманием и черты различия, разъединявшие эти регионы в их историческом развитии. На конкретном археологическом материале было показано, как происходил механизм взаимодействия Севера и Юга, проникновение южных вещей в северные районы и северных культурных явлений - в южные.
Доклады, прозвучавшие на конференции, показали, что исследователи России, Украины и Белоруссии способны преодолеть все политические преграды при работе над проблемами, вызывающими всеобщий интерес и отвечающими на важнейшие вопросы как древней, так и современной истории. Прошедший форум сделал весомый вклад в разработку одного из самых сложных вопросов истории Руси, показав, что именно археологии принадлежит ведущая роль в изучении данной темы.
В настоящее время по материалам конференции к печати готовится сборник статей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЕВОЙ СИМПОЗИУМ “ДРЕВНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ГОРНОГО ДЕЛА И МЕТАЛЛУРГИИ В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: КАРГАЛИНСКИЙ КОМПЛЕКС” (КАРГАЛЫ-ОРЕНБУРГ)
Изучение древнейшего горно-металлургического производства принадлежит к тем сферам научной деятельности, которые издавна обращали на себя внимание специалистов самого широкого профиля. Активные полевые изыскания трех последних десятилетий привели к выявлению выдающихся памятников древнего и старинного горного дела на Балканах (Аи-Бунар, Странжа и др.), в Леванте (Тимна и Фенан), на Иранском нагорье (Вешно-ве), в Средней Азии и Казахстане (Карнаб, Кенказган, Коунрад, Саяк и др.) и в других регионах Евразии. Особый резонанс у российской и международной научной общественности вызвало открытие Каргалинского меднорудного и горно-металлургического комплекса (Каргалы) в Южном Приуралье, на котором с 1990 г. развернулись и более десятилетия продолжались интенсивные полевые разыскания Каргалинской комплексной археологической экспедиции Института археологии РАН под руководством Е.Н. Черных. Уже предварительные публикации результатов данных исследований (см. их обзор: Черных, Лебедева, Кузьминых и др., 2002. С. 14-17) не просто стимулировали неподдельный интерес к Каргалам, но стали катализатором активного обсуждения проблематики, связанной с древнейшим горно-металлургическим производством, на ряде конференций и симпозиумов, а также на страницах российских и зарубежных журналов. На этих форумах и в печати, кроме того, настойчиво звучала мысль о необходимости осмысления основных аспектов и проблем горного дела и металлургии бронзового века Северной Евразии; при этом высказывалось пожелание, чтобы научным полигоном для встречи и обмена опытом специалистов различных стран и направлений стали именно Каргалы.