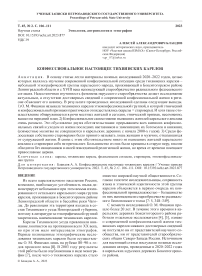Конфессиональное настоящее тихвинских карелов
Автор: Бландов Алексей Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 2 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
В основу статьи легли материалы полевых исследований 2020-2022 годов, целью которых являлось изучение современной конфессиональной ситуации среди тихвинских карелов -небольшой этнографической группы карельского народа, проживающей в Бокситогорском районе Ленинградской области и с XVIII века исповедующей старообрядчество радикального федосеевского согласия. Недостаточная изученность феномена нерусского старообрядчества делает исследование актуальным, а отсутствие достоверных сведений о современной конфессиональной жизни в регионе объясняет его новизну. В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы. 1) О. М. Фишман называла тихвинских карелов этноконфессиональной группой, в которой этнический и конфессиональный признаки практически отождествлялись (карелы = староверы). И хотя такое отождествление обнаруживается в речи местных жителей и сегодня, этнический признак, несомненно, вышел на передний план. 2) Конфессиональное самосознание нынешних жителей карельского анклава очень размыто. Это обусловлено двумя обстоятельствами: прерыванием всех внешних конфессиональных связей и уходом из жизни последних наставников и заменивших их богомолок и книжниц (совместные молитвы не совершаются в карельских деревнях с начала 2000-х годов). 3) Среди федосеевцев собственно староверами было принято называть лишь женщин и мужчин, отказавшихся от супружеской жизни. В связи с этим обстоятельством никто из нынешних жителей карельского анклава к староверам себя не причисляет. Большинство из них были крещены в старую веру, вполне обходятся без священников в своей повседневной религиозной жизни, но время от времени посещают православные церкви.
Карелы, тихвинские карелы, федосеевское согласие, староверие, этноконфессиональная группа
Короткий адрес: https://sciup.org/147239869
IDR: 147239869 | УДК: 39 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.877
Текст научной статьи Конфессиональное настоящее тихвинских карелов
Из всего карелоязычного населения России, возможно, наибольшую устойчивость языка демонстрирует небольшая и при этом весьма изолированная от остального карельского мира группа карелов, проживающая в Бокситогорском районе Ленинградской области в бассейне реки Чаго-ды. До революции эта территория входила в состав Тихвинского уезда Новгородской губернии, поэтому в литературе за этнографической группой закрепилось наименование тихвинских карелов.
Карелы Тихвинского уезда привлекали внимание лингвистов на протяжении всего ХХ века, но при этом мало интересовали этнографов. Первые полноценные этнографические исследования тихвинских карелов были осуществлены О. М. Фишман лишь на рубеже 80–90-х годов прошлого века [8]. В 2003 году результаты этой работы были опубликованы в виде монографии [7], после чего о тихвинских карелах стало известно широкой научной общественности. Согласно гипотезе исследовательницы, сохранность языка и этнической идентичности этой группы карелов объясняется в первую очередь их конфессиональной принадлежностью – большинство из них исповедовали старообрядчество радикального беспоповского толка [7: 5, 348–349].
С момента исследований О. М. Фишман прошло более 20 лет. В течение этого времени в карельских деревнях Бокситогорского района работали отдельные исследователи [4], [5], однако о современной конфессиональной жизни тихвинских карелов никаких достоверных сведений не поступало ни от представителей научного сообщества, ни от представителей старообрядческих общин Северо-Запада России. Источником для настоящей статьи послужили полевые исследования автора, проведенные в 2020–2022 годах в карельских и русских деревнях Бокситогорского района.
***
Несмотря на наличие ряда научных работ, тихвинские карелы изучены пока не всесторонне. Насколько позволяют судить имеющиеся материалы, формирование данной этнографической группы происходило во второй половине XVII века [1: 25]. Первоначально ареал карельского расселения включал не только нынешний анклав в бассейне реки Чагоды, но также несколько деревень по реке Смердомле, Соминскую пристань на реке Тихвинке и д. Боровые Харчевни на Ярославской дороге. Постепенно, однако, периферийные деревни обрусели или опустели, и к середине ХХ столетия в пределах Бокситогорского района оставалось лишь 15 карельских поселений: Утликово, Городок, Климово, Дятел-ка, Коростелёво, Логиново, Курята, Толсть, Би-рючёво, Коргорка, Забелино, Новинка, Дубровка, Селище, Моклоково1. Все 15 деревень анклава (а в особенности самые отдаленные из них) сегодня обобщенно называются Корелой , противо-поставляясь при этом русскому окружению – так называемой Руси . Однако степень сохранности языка в Кореле различная. В восточной части анклава (то есть в деревнях Дятелка, Коросте-лёво, Утликово, Логиново, Городок) на карельском языке говорят только самые пожилые люди, и его редко можно услышать в повседневном общении. В дальних же деревнях (Забелино, Новинка, Дубровка, Селище, Бирючёво, Толсть) карельский язык по-прежнему жив и служит языком семейного общения. На нем свободно говорит поколение 50+ и даже некоторые мужчины и женщины 1980-х годов рождения.
Есть основания полагать, что окрестности Тихвина являлись одним из первоначальных мест возникновения раскола. В середине XVIII столетия старообрядчество федосеевского согласия утвердилось и среди тихвинских карелов [7: 44–49]. Федосеевцы принадлежали к числу радикальных старообрядческих течений, на протяжении всей своей истории не признававших законность брака. Насколько известно, тихвинские карелы поддерживали тесные конфессиональные связи с Москвой, а не с Санкт-Петербургом, как многие другие общины Новгородчины. По воспоминаниям наших информантов, именно из Москвы поступали книги и иконы, туда же ездили учиться карельские наставники и книжницы. Возможно, в том числе благодаря этим прочным связям, в начале ХХ века местные общины не поддались общей для беспоповцев Северо-Запада тенденции и не перешли в брачное состояние2. В течение всего ХХ века собственно староверами здесь называли лишь старых женщин, уже не живших супружеской жизнью, только им позволялось кадить могилы и совершать другие религиозные обряды.
Постепенно, однако, конфессиональные связи ослабевали, и среди тихвинских карелов возобладало мнение, будто старая вера – это исключительно карельская вера: «Кто корелы – то одной веры. А вот русских не знаю, какая вера – наша или не знаю, а у корелов одна вера» (д. Дубровка, 2021 год). Но в действительности к началу ХХ века далеко не все тихвинские карелы исповедовали старообрядчество. В ближних деревнях Дятелка и Коростелёво староверами являлись лишь отдельные семьи. Преимущественно нестарообрядческой была и дальняя д. Селище, где до войны существовал единоверческий храм. При этом о староверах в соседних русских деревнях нашим информантам, действительно, ничего не известно. В ХХ столетии ближайшие русские старообрядческие поселения находились в нескольких десятках километров от карельского анклава, в бассейне реки Тихвинки, где проживали так называемые озеряне , а также вдоль Ярославской дороги3. Насколько позволяют судить источники, помимо федосеевцев там жили и представители страннического согласия [6: 154–156].
В 1990-х годах О. М. Фишман застала в Бокситогорском районе затухающую, но все еще живую старообрядческую традицию. Знавшие службу женщины отпевали и поминали покойников, отправляли таинство крещения (в последний раз ребенка здесь крестили в 1998 году во время съемок документального фильма)4. В д. Забелино совершались совместные молитвы. Молодые женщины, впрочем, участия в них уже не принимали, и со смертью последних богомолок в начале 2000-х годов традиция пресеклась.
В ходе исследований мне удалось найти лишь одну женщину, регулярно посещавшую в прошлом совместные молитвы. Это одна из немногих информантов, кто уверенно называет себя верующей . Она молится дома два раза в день, покупает в православном храме в г. Пикалёво церковные свечи и умеет читать по старым книгам. Впрочем, имевшуюся у нее старопечатную книгу она отдала родственникам, никогда не держала отдельную посуду, а последнюю оставшуюся листовку хранит вместе с приготовленным на смерть комплектом одежды.
В целом конфессиональное самосознание современных жителей деревень карельского анклава довольно размыто. При вопросе о староверах они прежде всего вспоминают о богомолках (jumalantiedäjät, jumalankumardelijat), не причисляют к староверам себя и вообще сомне- ваются, что где-либо еще остались староверы. Отчасти такая ситуация обусловлена делением общины в прошлом на собственно староверов (viellozet) и мирских (mirskoit)5. К мирским относили молодежь, замужних женщин и женатых мужчин. Кроме того, мирскими называли последователей официальной Церкви. Собственно же староверами считались лишь пользовавшиеся отдельной посудой и посещавшие совместные молитвы старые, как правило, вдовые женщины:
«Viellozet – это моя мама oli viellone, она потом уже, к концу жизни своей, когда ей было, не знаю сколько, 50, может, она тоже в веру в эту пришла. Viellozet – это как бы сказать, они какой-то обет дают что ли, насколько я понимаю, что они посты соблюдают как бы. [Соб.: То есть мама не с самого начала была viellone?] Не-не-не, а viellone с самого начала ты и не можешь быть, потому что у тебя семья. Viellozet – это были уже которые как бы с мужчинами отношений не имели. Viellozet с самого начала oldih – были, вот кто старые девы, вот Palaga-tädi oli viellone, Anni-tädi – oldih viellozet. А потом уже к концу жизни многие бабушки стали viellozet. Viellozet – это все равно как монашки, если разобраться» (д. Новинка, 2022 год).
Примечательно, что общего для всех членов общины устойчивого самоназвания в карельском языке, по-видимому, не существовало. Во время поминок ко всем собравшимся обращались, используя термин ristituzet – крещеные.
Наши информанты в молодости не причислялись к viellozet, и, стало быть, в местной терминологии староверами не являются. Лишь одна из собеседниц некоторое время назад пользовалась отдельной посудой. Соседи и родственники считают ее последней староверкой, но сама она называет себя мирской. Затухание старообрядческой традиции она вписывает в более широкий эсхатологический контекст:
«Я вот молюсь да и говорю: “Господи, прости меня за все грехи, что я согрешила, спаси и сохрани”. Дак вот прощает ли Господь Бог али не? Потом Суд будет, говорят, на Суде будут эти грехи, хоть и умёрши, хоть и живые, а всё говорят, что скоро Суд будет, Конец Света аль Суд. Конец-то будет али не, я не знаю, чего-то время такое бурное стало. Вот нонче главное, болезнь эта такая большая. А после этой еще, говорят, в сентябре чего-то будет опять, такая волна. Вот я думаю, что чего это и за что это. Люди стали молодые не веровать, мало веруют, вот это Бог и дает такое. Мало веруют, оставляют грехов много. Надо друг другу помогать, оскорблять не надо, не надо врать, лучше бы отдавать, чем брать – много грехов, всяких грехов. <…> Вот Господь Бог и говорит, что терплю до конца и мучить буду без конца. Так что надо Господа Бога не забывать» (д. Бирючёво, 2020 год).
Большинство нынешних жителей карельского анклава (даже тех, кто родом из нестарообряд- ческих деревень) были в детстве крещены в старую веру. Тем не менее они время от времени посещают храмы Русской православной церкви, удивляются, почему этого не делали богомолки прошлого, и зачастую не считают свою веру отличной от господствующей православной.
Утрата конфессионального самосознания может быть объяснена двумя обстоятельствами: полным исчезновением института наставничества, с одной стороны, и прерыванием всех внешних конфессиональных связей – с другой. Последние карельские мужчины-наставники умерли в первой половине ХХ века, а заменившие их женщины-богомолки – в начале 2000-х годов. К середине ХХ века были нарушены конфессиональные связи с Москвой. До конца 1980-х годов поддерживалось эпизодическое общение со старо-верами-озерянами из п. Ефимовский. В частности, ефимовские женщины приезжали отпевать Iri-buabo – одну из последних книжниц д. Би-рючёво. Впрочем, сегодня активная конфессиональная жизнь не наблюдается и в окрестностях п. Ефимовский. Вплоть до настоящего времени тихвинские карелы не установили прочных конфессиональных связей и с Санкт-Петербургом. Лишь немногие мои информанты знают о существовании там старообрядческой общины.
О. М. Фишман называла тихвинских карелов этноконфессиональной группой, где конфессиональный и этнический признаки играли равнозначную роль и порой даже отождествлялись [7: 174]. Такое отождествление обнаруживается в речи некоторых местных жителей и сегодня. И все же к настоящему времени этнический признак точно вышел на передний план [2: 89–90]. Жители карельского анклава без особого труда могут перечислить все карельские деревни, но обычно затрудняются сказать, в каких из них жили староверы. Об однозначно нестарообрядческих деревнях, как правило, говорят лишь, что там «мало веровали».
В результате конфессиональная топография местности может быть реконструирована сегодня отнюдь не полно и только со слов наиболее сведущих в религии местных жителей. Церкви в Озерёво, Селищах, Журавлёво и Со-мино, а также часовни в русских деревнях Заозерье и Белый Бор, как правило, воспринимаются как мирские, а часовни в карельских деревнях, особенно те из них, которые стоят на кладбищах, обычно считаются своими, принадлежавшими в прошлом общине староверов. Эта информация требует документального подтверждения, но, судя по воспоминаниям информантов, все часовни района могли посещаться и староверами, и мирскими. Некоторые мои собеседницы, а также их более старшие родственники лично ходили по завету в Белый Бор и Заозерье, приносили заветные полотенца в забелинскую и толстинскую часовни. Старообрядческие же моленные (которые тоже нередко именуются часовнями), напротив, могли посещаться лишь представителями общины. Далеко не все информанты бывали там в детстве. Часто можно услышать рассказ о том, как местные богомолки не пустили в моленную женщин, пришедших из мирских деревень:
«Бабушка пришла с другой деревни в часовню – это на Паску, и эти бабушки наши давай ее выгонять: “Ох ты бессовестная, будешь тут нам гадить, с двумя перстами будешь тут молиться что ли? Знаешь чего, вот луна светит – дуй-ка домой отсюда, от нашей ча-совн и!” – и выгнали вот бабку. Я еще пацаном был, а мне жалко ее даже было» (д. Новинка, 2022 год).
Кроме того, в первой половине ХХ века не крещенные в старую веру не могли быль похоронены на староверских кладбищах:
«Наши предки вообще, прабабушка тоже вообще русская была. Она была с Великих Лук. [Соб.: Как она сюда попала?] Прадед привез. <…> Она когда умирала – прадед был похоронен в Бирючёво, они на той стороне, на Буйкове жили – она когда вот умирала, она просила: вот ря дом со Степаном похороните в Бирючёве. Она как русская – и ее сюда не похоронили, на погост в Озе-рёво свезли. Она даже зарок такой дала: если не похороните, похороните на погосте – я трех попов съем. И она съела трех попов… Один по зимней дороге с Толстей сюда ехал на лошади по Лининке – по реке, провалился, утонул, замерз. Второго поставили потом сюда в Озерё-во на его смену – тот повесился. А третьего парализовало. [Соб.: Это ж когда было? Давным-давно?] Но умерла она в 1922 году, потому что тятя у меня 17-го года рождения, а как он помнит, ему было пять лет, когда бабушка умерла. <…> [Соб.: В Бирючёве можно было только староверов хоронить?] Кореляков. А если русские или еще какая национальность – то уже не хоронили» (д. Бирючёво, 2022 год).
В ХХ веке староверские моленные существовали как минимум в трех карельских деревнях, но конфессиональным центром округи считалась д. Бирючёво. Рассказывают, что именно там жили самые правильные и строгие староверки, не выходившие замуж по религиозным соображениям. Родом именно из этой деревни были иноки братья Би-рючевские. В начале ХХ века, спасаясь от греха, они бросили свои семьи, ушли из мира и поселились в лесу, где построили для себя келью:
«Вот эти вот Бирючевские и ушли в лес. А вот кто они были моему мужу, не знаю, родня. Бирючевские вот два брата. Я даже дом помню старый уже – я ходила 16 километров – построен был дом один, и там жили, семьи тут оставили. А вот почему они так сделали, как будто от греха ушли, а сами семьи здесь, детей оста- вили, не знаю, только вот это я слышала. До сих пор удивляюсь, как это так – от греха уйти в лес. Но я уже их не застала, только вот уже старый дом разваленный в лесу» (д. Бирючёво, 2021 год).
«Tämä oldih kakši dieduo, Birčovskoi Grišu-diädö i vielä hänen vel'l'i, Ivo-diädö. Oldih uijittu tuagieh šuoh, šielä perti pandu ili zeml'anka, kaivo kaivettu i šielä elettih. I ku hyö kuoldih, hiät tänne tuodih i peitettih tiälä. Grišunselen’n’a, tämä oli kohta, sija Gorkih päin, missä hyö oldih, elettih» (д. Бирючёво, 2022 год)6.
Кроме того, согласно преданию, в д. Бирючёво приняли мученическую смерть за веру некие три девки. Судя по записям О. М. Фишман, еще 30 лет назад такие рассказы бытовали довольно широко [7: 85–88, 91–92]. Сегодня они фиксируются нечасто, в основном от жителей д. Бирючёво:
«Это по старым предсказаниям, там три бабки или две бабки жили иноверки или кто-то, как я слышал. То ли их сожгли, то ли чего-то такое. И на этом месте они захоронены. Я, когда вот дом строил, я у их как бы просил прощения, что рядом, может, потревожу, мало ли в дальнейшем» (д. Бирючёво, 2021 год).
«Это тятя рассказывал, это еще при Ливонской войне жили три сестры – там домик такой был небольшой – три сестры, и ливонцы их сожгли заживо. Была часовенка поставлена, потом она разрушена была» (д. Бирючёво, 2022 год).
Статус конфессионального центра д. Бирю-чёво не утратила и сегодня. В 2015 году жители четырех соседних деревень (Толсть, Курята, Бирючёво и Коргорка) собрали деньги и своими силами отремонтировали в Бирючёво кладбищенскую часовню, освятили ее без участия священника и с тех пор самостоятельно собираются там по праздникам, заходят в поминальные дни, по традиции приносят туда платки, а в случае смерти ребенка – детские игрушки. Женщины, которые хранят ключи от часовни, хотя и не считают себя староверками, но воспринимаются порой как наследницы последних староверских книжниц: Матрёны и Ириньи Би-рючевских, возглавлявших общину д. Бирючёво до конца 1980-х годов.
Примечательно, что в соседней д. Толсть тоже есть часовня, отремонтированная недавно деревенскими жителями. В отличие от часовни на бирючёвском кладбище, она всегда считалась мирской и на протяжении последних лет регулярно посещается православным священником из п. Ефимовский. В престольный праздник деревни там обязательно совершается служба. В отсутствие священника молитвы читает местная жительница родом из Псковской области.
Третья карельская часовня располагается на кладбище в д. Коростелёво. Ее также привели в порядок несколько лет назад, но открывают ред- ко, в основном в поминальные дни. И хотя все действующие ныне часовни могут посещаться одними и теми же людьми, определенные отличия между ними все же имеются. Толстинская часовня, во многом благодаря деятельности ее хранительницы, находится в сфере влияния священника Русской православной церкви, а бирючёвская существует как бы автономно. Ее постоянные прихожане – преимущественно бывшие беспоповцы. Они уже не знают церковной службы, не читают по-церковнославянски, но вполне обходятся без священника в своей повседневной религиозной жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тихвинские карелы – не единственная группа карелов, исповедовавшая в прошлом старообрядчество федосеевского согласия. Но лишь у тихвинских карелов староверие сыграло роль столь мощного этностабилизирующего фактора.
Сегодня жители карельских деревень Ленинградской области в своей религиозной жизни мало отличаются от окрестного русского населения. Они не считают себя староверами, хотя и были крещены в старую веру. Их конфессиональное прошлое стало в некотором смысле предметом гордости. Карелы охотно рассказывают о родственницах-богомолках, ездивших учиться в московский монастырь, о книжницах, не выходивших замуж по религиозным соображениям, об обилии икон и книг в деревенских моленных, о сложных похоронных и поминальных обрядах, совершавшихся вплоть до недавнего времени. На утрату старообрядческой культуры многие смотрят с сожалением.
Подводя итог, подчеркнем, что конфессиональное настоящее тихвинских карелов – уже нестарообрядческое. Федосеевство остается важным компонентом устной традиции, но уже почти не проявляется на практике.
Список литературы Конфессиональное настоящее тихвинских карелов
- Бландов А. А. Переселение карелов на Новгородские земли в XVII веке: новые документы // Рябининские чтения-2019: Материалы VIII Конференции по изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 24-26.
- Бландов А. А., Мельников И. А. Этническое и конфессиональное в самосознании и исторической памяти потомков карел-старообрядцев Новгородской и Ленинградской областей // Локальные этноконфессиональные группы в Центральной России. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2021. С. 83-95.
- Королькова Л. В. Старообрядцы Новоладожского, Тихвинского, Лодейнопольского уездов в первой половине XIX в. // Историко-культурный ландшафт Северо-Запада-2. Пятые Шёгреновские чтения: Сб. ст. СПб.: Европейский Дом, 2012. С. 191-215.
- Косенков А. Ю. Часовни климовских карел // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Естественные и технические науки. 2008. № 2 (92). С. 15-26.
- Ку зьмин Д. В. Топонимия тихвинской Корелы: интерпретация экспедиционных материалов // Вопросы ономастики. 2008. № 5. C. 192-200.
- Мельников И. А. Старообрядчество Устюженского уезда Новгородской губернии в XIX-XX вв.: динамика расселения и конфессиональные взаимосвязи // Новгородский исторический сборник: Сб. научн. ст. Вып. 18 (28). Великий Новгород: РАН, 2019. С. 153-181.
- Фишман О. М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. М.: Индрик, 2003. 408 с.
- Фишман О. М. Тихвинские карелы: первый опыт изучения локальной группы // Население Ленинградской области: Материалы и исследования по истории и традиционной культуре: Сб. науч. тр. СПб.: Государственный музей этнографии, 1992. С. 119-131.