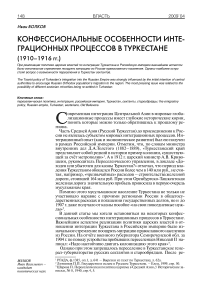Конфессиональные особенности интеграционных процессов в Туркестане (1910-1916 гг.)
Автор: Волков Иван Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2009 года.
Бесплатный доступ
При реализации политики царских властей по интеграции Туркестана в Российскую империю важнейшим аспектом было изначальное стремление поощрять миграцию из России православного населения. Однако наиболее остро стоял вопрос о возможности переселения в Туркестан сектантов.
Переселенческая политика, интеграция, российская империя, туркестан, сектанты, старообрядцы
Короткий адрес: https://sciup.org/170164803
IDR: 170164803
Текст научной статьи Конфессиональные особенности интеграционных процессов в Туркестане (1910-1916 гг.)
С овременная интеграция Центральной Азии в мировые глобализационные процессы имеет глубокие исторические корни, понять которые можно только обратившись к прошлому региона.
Часть Средней Азии (Русский Туркестан) до присоединения к России не являлась субъектом мировых интеграционных процессов. Интеграционный опыт (как и экономическое развитие) был ею получен в рамках Российской империи. Отметим, что, по словам министра внутренних дел Д.А.Толстого (1882–1889), «Туркестанский край представляет собой редкий в истории пример колонии, существующей за счёт метрополии»1. А в 1912 г. царский министр А.В. Кривошеин, руководитель Переселенческого управления, в докладе «Доходен или убыточен для казны Туркестан?» отмечал, что период владения Туркестаном обошелся России более чем в 140 млн руб., не считая, например, «чрезвычайных» расходов – строительства железной дороги, стоившей 164 млн руб. При этом Оренбургско-Ташкентская железная дорога значительную прибыль приносила в первую очередь мусульманам края.
Помимо этого мусульманское население Туркестана не только не участвовало наравне с прочими регионами России в общегосударственных расходах и погашении государственных долгов, но и до 1907 г. даже получало от казны пособие «на свои повседневные нуж-ды»2.
В данной статье мы хотели остановиться на некоторых конфессиональных особенностях интеграционных процессов в Туркестане. Важнейшим аспектом реализации политики царских властей в отношении интеграции Туркестана в Российскую империю было изначальное стремление поощрять миграцию православного населения из России. На отчёте военного губернатора Семиреченской обл. за 1904 г. по поводу устройства прибывших переселенцев Николай II написал: «Надо настойчиво двигать колонизацию этого края»3.
Однако при этом запрещалось переселение в Туркестанское генерал-губернаторство русских сектантов и старообрядцев. После ре-
ВОЛКОВ
Иван Васильевич – кандидат политических наук
волюции 1905 г. премьер-министр и одновременно министр внутренних дел П.А. Столыпин (1906–1911) придерживался позиции, направленной на ужесточение ограничений в отношении переселенцев – приверженцев всех «антиправославных» течений в христианстве. Считая сектантство своего рода «религиозно-революционным» элементом, Столыпин стремился не допустить его проникновения в те районы России, где позиции царизма были недостаточно сильны.
Придерживались этой позиции и другие высшие чиновники Российской империи. Так, один из руководителей Министерства финансов А. Фрей отмечал, что в Туркестанском крае перед лицом подавляющего большинства мусульман «мы должны быть крепки, а крепки мы будем только тогда, когда нас будет объединять одна господствующая религия в основной её чистоте, вне богоискательного расслоения на секты и толки»1.
Однако, несмотря на ясно выраженную позицию центральных властей, на краевом, областном и уездном уровнях разброс мнений по поводу того, переселять в Туркестан сектантов или нет, был чрезвычайно велик.
В туркестанской администрации, понимавшей, что переселенческий вопрос представляет исключительную важность для интеграции Туркестанского края, где против 6 млн мусульман живёт всего 200 тыс. русских людей, находилось немало чиновников, отстаивавших возможность более масштабного расселения сектантов в крае и даже обращавшихся по данному поводу в высшие правительственные инстанции. В связи с этим характерен следующий пример.
6 ноября 1910 г. для туркестанского генерал-губернатора А.В. Самсонова (1909– 1914) его канцелярией был подготовлен доклад «О составе русских переселенцев, наиболее желательном для колонизации Туркестанского края», в котором излагалось мнение туркестанской администрации по вопросу о переселении в край сектантов и старообрядцев. Он был вынесен Самсоновым на рассмотрение Совета туркестанского генерал-губернатора. Совет на своём заседании от 13 января 1911 г. зафиксировал следующее положение: «Допускать переселение на свободные земли в областях туркестанского генерал-губернаторства на общем основании с лицами православно- го вероисповедания также и последователей всех религиозных сект, не признаваемых вредными»2.
Однако данный пункт не был утверждён генерал-губернатором, который категорически заявил: «Считаю недопустимым поселение сектантов, за исключением старообрядцев. Что же касается до сектантов уже водворившихся в крае, то решение о них должно быть предоставлено туркестанскому генерал-гу-бернатору»3.
Особое право настаивать на собственной точке зрения Самсонову давало категорически отрицательное отношение администрации Семиреченской обл. к переселению инославных. А мнение Семиречья было мнением большинства русских в Туркестане (в области проживало две трети всего русского населения края). Причём это были преимущественно постоянно живущие казаки, крестьяне и мещане, в то время как в Сыр-дарьинской и Ферганской обл. преобладающим был временный военный и чиновничий контингент.
Состоявшееся 23 января 1912 г. в г. Верном (Алма-Ата) совещание уездных начальников и заведующих переселенческими подрайонами приняло решение добиваться абсолютного запрещения сектантам переселяться в пределах Семиречья. Это движение вдохновлял епископ Туркестанский и Ташкентский (1906–1912) Димитрий (князь Д.И. Абашидзе), при котором число храмов в Туркестане увеличилось более чем вдвое (с 78 до 161) и начал издаваться печатный орган «Туркестанские епархиальные ведомости».
4 февраля 1912 г. епископ Димитрий написал развернутое письмо обер-прокурору Священного Синода, в котором сообщал об «опасности завоевания» Туркестанского края сектантами и просил содействия в его предотвращении. 11 февраля 1912 г. он обратился с не менее пространным посланием и к туркестанскому генерал-губернатору.
Епископ писал, что ст. 5 «Правил» о переселении распространяется на все области края, а сектанты, тем не менее, «водворяются» повсеместно под видом православных и способны совершенно деморализовать русское население Туркестана4. Туркестанским генерал-губернатором были отданы соответствующие распоряжения местным властям.
Несмотря на то что вопросы присутствия сектантов в Туркестане в начале XX в. на практике решались, как правило, отрицательно, попытки переселения в край со стороны сектантов продолжались. Поэтому с весны 1912 г. началась кампания по выселению сектантов из пределов Семиречен-ской обл. Однако, несмотря на все принимаемые меры по ограничению притока сектантов в Туркестан и выселению их из его пределов, в целом по краю число сектантов не уменьшалось, поскольку многие сектанты прибывали под видом православных. В связи с этим начальник Управления земледелия и государственных имуществ в Туркестанском крае в своем письме генерал-губернатору от 6 июля 1912 г. предлагал осуществить следующие мероприятия: оповестить всех губернаторов «внутренних» губерний, чтобы не направляли сектантов в Туркестанский край; категорически запретить въезд в пределы края и особенно Семиреченской обл. ходокам-сектантам; отобрать свидетельства и исключить тех сектантов, которые сумели зачислиться в сельские общества; выселить всех уже водворившихся сектантов.
Правда, он указывал, что у туркестанской администрации «нет достаточно законных оснований для выдворения их из правомерно занятых участков лишь за принадлежность к той или иной секте». По его мнению, «только с появлением такого ограничительного закона возможно будет уничтожить в дальнейшем то тлетворное влияние переселенцев-сектантов на чистоту религиозных убеждений православного на-селения»1.
По просьбе Главного управления землеустройства и земледелия Российской империи, министр внутренних дел статс-секретарь А.А. Макаров 12 сентября 1912 г. направил циркуляр всем губернаторам, в котором потребовал, чтобы земские начальники при выдаче документов на переселение строго предупреждали переселенцев, что сектанты не допускаются во все области, входящие в состав Туркестанского края2.
Туркестанский генерал-губернатор, получив рапорт начальника Управления земледелия и государственных имуществ края, потребовал от последнего составить проект о распространении ст. 5 «Правил» о переселении на сектантов и запросил мнение военных губернаторов областей по этому вопросу.
Военный губернатор Самаркандской обл. (1911–1914) И.З. Одишелидзе, сообщая 3 августа 1912 г. в канцелярию туркестанского генерал-губернатора свое мнение, отмечал, что сектантов «совершенно избегать при колонизации окраинных областей не следовало бы, ибо это нельзя считать мерой, вызываемой государственными целями, в особенности ныне, после Высочайшего указа о веротерпимости и правительственной политики создания сплочённости русских людей на почве национального единства, а не религиозных убеждений»3.
18 августа 1912 г. начальник Закаспийской обл. (1911–1913 гг.) Ф.А. Шостак в своем рапорте в канцелярию докладывал, что на подведомственной ему территории в основном проживают молокане, баптисты, «иудей-ствующие», адвентисты и лютеране, а в Асхабадском уезде большинство немусульманского населения составляют сектанты. Он писал, что при заселении Закаспийской обл. ст. 5 «Правил» на неё не распространялась, а потому сектанты тут осели основательно: «Полагаю, что лишать наделов тех поселян-сектантов, которые уже водворены в области, нет законных оснований и не-возможно»4. Военные губернаторы Сыр-дарьинской обл. А.С. Галкин (1911–1916) и Ферганской обл. А.И. Гиппиус (1911–1917) хотя и высказались за запрещение переселения сектантов в Туркестанский край, однако при этом советовали не трогать тех из них, кто ранее «водворился» в крае.
Лишь военный губернатор Семиречен-ской обл. М.А. Фольбаум был настроен категорически против как вновь прибывающих сектантов, так и тех, кто уже обосновался в Туркестанском крае.
На основании данных, полученных от военных губернаторов областей, канцелярия составила для Совета туркестанского генерал-губернатора соответствующую справку, а Управление земледелия и государственных имуществ в Туркестанском крае 26 октября 1912 г. подготовило проект поправки о распространении ст. 5 «Временных правил о переселении» на сектантов. Смысл проекта сводился к тому, что сектанты, переселившиеся под видом православных, при обнаружении обмана немедленно должны были лишаться полу ченных над елов и выселяться.
Принятый 24 января 1913 г. Советом туркестанского генерал-губернатора проект Закона о распространении ст. 5 «Временных правил о переселении» на все области края в значительной мере сократил число прибывающих сектантов. Случаи их проникновения в Туркестан, безусловно, были, но они стали спорадическими. Уменьшилось и число самих сектантов в крае за счёт выявления «тайнопоселенцев» и высылки их за пределы Средней Азии.
При претворении в жизнь принятых положений, как и следовало ожидать, во многих местах допускались перегибы. Зачастую власти начинали преследовать сектантов, которые переселились в Туркестанский край ещё в 80–90-х гг. XIX в. Однако нередки были случаи, когда сектанты добивались положительного решения вопроса о своём расселении в крае (вернее, об узаконении его. – Авт.) через туркестанского генерал-губернатора, а иногда и непосредственно через военное министерство.
Так, например, 10 октября 1914 г. Главный штаб уведомлял туркестанского генерал-губернатора, что военный министр лично разрешил причислить 18 крестьян-баптистов к обществу крестьян села Нижне-Волынского Самаркандской обл. Из этого следует, что царские власти и краевая администрация, препятствуя «водворению» в Туркестан новых сектантов, проводили довольно мягкую политику в отношении «старых» сектантов-поселенцев.
Что касается старообрядцев, то по отношению к ним меры царской администрации были значительно мягче. Им, как правило, довольно быстро давались разрешения на переселение в Туркестанский край в тех высших государственных инстанциях, от которых это зависело. Сами туркестанские власти тоже не чинили им особых препятствий, за исключением тех случаев, когда необходимо было учитывать 10-процентный ценз переселения раскольников в Семиреченскую обл.
Таким образом, можно констатировать, что в ходе интеграционных процессов, происходивших в Туркестане, царское правительство стремилось иметь в крае конфессионально однородное, традиционно русское общество, без революционно-взрывоопасного «сектантского элемента». При этом необходимо отметить, что, несмотря на разноречивые мнения в отношении сектантов, всех представителей туркестанской администрации объединяла общая «имперская» цель – желание водворить в Туркестанском генерал-губернаторстве русскую культуру, которая способствовала бы мирному и позитивному обустройству цивилизованной жизни в Средней Азии для блага всех народов, населяющих край, независимо от их вероисповедания.