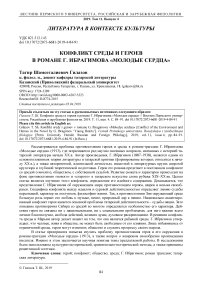Конфликт среды и героев в романе Г. Ибрагимова "Молодые сердца"
Автор: Гилазов Тагир Шамсегалиевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема противостояния героев и среды в романе-трагедии Г. Ибрагимова «Молодые сердца» (1913), где затрагивается ряд научно значимых вопросов, связанных с историей татарской литературы начала ХХ в. Автор произведения, Г. Ибрагимов (1887-1938), является одним из основоположников теории литературы и татарской критики (формирование которых относится к началу ХХ в.), а также авторитетной, влиятельной личностью, известной в литературных кругах широтой кругозора и глубиной теоретической подготовки. Герои его романа предстают в постоянном конфликте со средой («мөхит»), обществом, с собственной судьбой. Развитие сюжета и характеров происходит на фоне противостояния «нового» и «старого» в татарском искусстве слова рубежа XIX-XX вв. Целью статьи является изучение этого конфликта, определение его идейного содержания. Доказывается, что представление Г. Ибрагимова об окружающем мире, противостоящем героям, широк и весьма своеобразен. Специфика конфликта между идеалом и суровой действительностью определяет линию судьбы персонажей, характер их поступков, философию жизни. Так, в противостоянии Зии окружающей среде большую роль играет его любовь к музыке, песне, природный дар к пению. Национально акцентированный конфликт героя касается основной проблемы татарской действительности - судьбы нации. Зато описание противоречия Сабира со средой во многом определяется особенностью его характера. Действия героя не связаны ни с национальными, ни с социальными проблемами, для него важнее всего личное благополучие, свобода действий, веления души, духовное раскрепощение. В решении конфликта среды и Марьям автор делает акцент на том, что она является рабыней среды. Г. Ибрагимов утверждает, что человек, живя в обществе, не может быть свободным от его влияния. Лишь избавившись от ограничений среды, герои могут изменить общество и служить прогрессу своего народа. В статье предпринята попытка изучить проблему противостояния героя и его окружения в романе-трагедии «Молодые сердца» (1913), а также вопрос о жанровом своеобразии произведения писателя. Именно в этом заключается научная новизна темы предлагаемой работы. В исследовании были использованы культурно-исторический, сравнительно-исторический методы, а также принципы рецептивной эстетики.
Герой, конфликт, общество, среда, г. ибрагимов, роман трагедии, татарская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147226992
IDR: 147226992 | УДК: 821.512.145 | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-4-84-91
Текст научной статьи Конфликт среды и героев в романе Г. Ибрагимова "Молодые сердца"
В настоящее время, как известно, претерпевают изменения подходы к анализу художественных произведений. Причем делается акцент на вопросе воспитания всесторонне развитой и активной личности, имеющей представление об истории, культуре, философии жизни своего народа. При анализе литературного наследия, где объектом исследования становятся тексты, в которых рассматриваются философские вопросы бытия и человеческой жизни, фокусируется внимание на личности. И это особенно очевидно в творчестве такого крупного писателя татарской классической литературы, как Галимджан Ибрагимов (1887–1938). Данный аспект проблемы анализа художественных текстов мало изучен и в перспективе требует больших исследовательских усилий. В нашей статье предпринята попытка изучить проблему противостояния героя и его окружения в романе «Молодые сердца» (1913), а также коснуться вопроса жанрового своеобразия произведения писателя. Именно в этом заключается научная новизна темы предлагаемой работы. В исследовании были использованы культурноисторический, сравнительно-исторический методы, а также принципы рецептивной эстетики.
Как известно, на рубеже XIX–XX вв. в общественной и культурной жизни татар происходят существенные изменения. Появляется целая плеяда деятелей, просветителей, которые ставили перед собой задачу модернизации татарского общества, реформирования общественно-философской, эстетической и научной мысли. Зарождение татарской периодической печати, развитие издательского дела, новая культурологическая ориентация – от Востока к Западу – стали импульсом к формированию татарской литературной критики, в недрах которой закладывались основы национального учения об искусстве слова и истории татарской литературы как науки. В новых социальных и культурных обстоятельствах в татарской литературе формируются новые тенденции. В данный период в татарской литературе параллельно развиваются и взаимодействуют различные творческие методы, среди которых были и модернистские течения; переосмысливается литературный опыт европейских стран; появляются новые жанры и приемы; в прозе, например, ярко проявились социальнобытовые, психологические, исторические романы, романы-трагедии; повышается интерес к национальным проблемам. Литературовед Д. За-гидуллина пишет: «Начало ХХ века по праву считается временем зарождения новой татарской литературы, ускоренного развития татарской культуры, “золотым периодом” в национальном литературном процессе» [Загидуллина 2011: 77]. В разработке основных теоретических проблем литературоведческой науки и в развитии новой литературы заметную роль сыграл и Г. Ибрагимов.
Роман-трагедия Г. Ибрагимова «Молодые сердца» имеет огромное значение в плане обновления татарского искусства слова начала XX в. Он был оценен современниками как прекрасный образец психологического романа. Очень богата история изучения этого произведения, которое является жемчужиной наследия писателя. После выхода в свет роман получил положительные отклики прежде всего в среде профессиональных читателей, была отмечена идейно-тематическая новизна, а также новизна формы, привнесенные им в татарскую литературу 1910-х гг. [Гыйлаҗев 2010: 66].
В советский период к творчеству писателя обращались такие татарские литературоведы, как Г. Сагди [Сәгъди 2008], Г. Нигмати [Нигъмәти 1958], М. Хасанов [Хасанов 1977; Хәсәнов 2002], И. Нуруллин [Нуруллин 1982], Т. Гилазов [Гый-лаҗев 2010; Гилазов 2017] и др.
На стыке XX–XXI вв. в условиях возрождения и развития теоретической мысли в изысканиях Д. Загидуллиной раскрываются совершенно новые качества романа «Молодые сердца» [Заһи-дуллина 2006]. Разносторонняя деятельность неповторимой личности писателя рассматривается в контексте различных литературно-эстетических систем и философских концепций. Известно, что проза Г. Ибрагимова развивает традиции Востока и Запада в новых общественнодуховных условиях. Нарастающее внимание к западной культуре приводит его к поискам в области содержания и формы жанра. В его романтических произведениях особенно ярко проявляются идейно-эстетические концепции видных писателей начала ХХ столетия. Идейно-эстетические взгляды и взаимоотношения писателя с известными современниками исследованы в монографических работах немецких ученых-тюркологов: М. Фридриха [Friedrich 1998], И. Балдауфа [Baldauf 1994]. Теоретические вопросы жанра романа рассматриваются в работах С. Г. Келлмана [Kellman 1980], Б. В. Шаффер [Shaffer 2006].
Смена событий и развитие характеров в романе-трагедии «Молодые сердца» предстают на фоне традиционного конфликта татарской литературы рубежа XIX–XX в., а именно противостояния «нового» и «старого». В трудах, посвященных исследованию романа, рассматриваются разные варианты этой проблемы: конфликт между «старым и новым», «между минувшей и новой жизнью», проблема «отцов» и «детей». В своем учебном пособии «Каноны литературы» («Әдәбият кануннары») (1919) сам писатель это противоречие называл «борьбой старого с но- вым» [Ибраһимов 1919: 77]. Конфликт между Джалялетдином-муллой и его сыновьями Сабиром и Зиёй в романе определяется им так: «Так думал отец. Но сыновья ответили ему иначе. То ли под веянием времени и природы, желание отца и действия детей были противоположны друг к другу [Ибраһимов 1975: 48]1.
Вторая вариация основного конфликта – вечное противоборство героев с окружающей средой – неоднократно повторяется автором на протяжении всего произведения. Смысл, вложенный Г. Ибрагимовым в понятие «окружающая среда», шире, чем «обитаемая среда», «национальная действительность» или «окружение». Со второй по четвертую часть в произведении описывается борьба главных героев – Джалялетдина-хазрета, Сабира, Зии, Марьям – с окружающей средой. Разрешению этого противоборства способствуют литературная и философская концепции, нашедшие отражение в рассказах прозаика, написанных в 1910-х гг. Литературовед М. Хасанов отмечает, что в романе «Молодые сердца» наиболее наглядно отразилась та идейно-эстетическая концепция, которая присутствовала в ранних новеллах Г. Ибрагимова [Хасанов 1975: 33]. По словам известного литературоведа Дж. Валиди, Г. Ибрагимов в 1910-х гг. серьезно задумывался над проблемой описания человека в литературе [Ги-лазов 2015: 207]. Философская концепция человека и его сущности, присутствующая в рассказе «Угасший ад» (1911), прослеживается в каждом герое романа. «Люди по своей природе, силе делятся на несколько видов: некоторые своими железными руками поворачивают судьбу в нужное им русло – это настоящие хозяева жизни, правители. Остальные безропотно выполняют предначертания рока, они не являются правителями своих судеб, а всю жизнь рабы судьбы и среды» [Ибраһимов 1974: 127].
В свете сказанного особый интерес представляет образ Зии. Он человек тонкой души, влюбленный в музыку до «умопомрачения». «Главный герой романа Зия, – пишет критик Г. Губайдуллин, – романтик, слабый, немощный человек, человек женской сущности... Он представитель «вечной трагедии», деятельный на своем пути, поэтическая натура которого помешана на музыке» [Гобәйдуллин 2008: 81]. В противостоянии Зии окружающей среде большую роль играет его любовь к музыке, проявившаяся с раннего детства, природный дар к исполнению песни, восприятию татарской мелодии. Отношение к музыке в национальной реальности начала XX в. хорошо отображается во внутреннем монологе Зулейхи-абыстай об игре Зии на скрипке: «Музыкант для нее – так же грешен, как распутник, как вор, избитый за кражу лошади, или поющий на улице. Ведь лишь безбожники и бесстыдники любят музыку» [Ибрагимов 1980: 57].
Интересно и то, что чем старше становится Зия, тем любовь к музыке становится сильнее. Поэтому противостояние героя и среды, его духовные переживания со временем претерпевают изменения. На вечерах в мектебе, организованных после ухода хазрета, Зия играет на курае, кубызе, иногда на гармошке, принимает участие в пении. Вернувшись в деревню, он втайне от всех играет на кубызе. Это занятие Зии не одобряет его отец Джалял-хазрет, за это «он отведал немало палок и издевательств» [Ибраһимов 1975: 65]. Безысходность» в его противостоянии окружающей среде, появившаяся вследствие того, что добросердечная мать Зии не смогла «отвадить своего сына от этой напасти, а также авторитет семьи перед деревенским людом, мнение общества об музыкальном виде искусства играют важную роль: «Разве допустимо, чтоб сын известного Джаляла-муллы и образованной Зу-лейхи-абыстай мог находиться в обществе отпетых озорников! Подобного не позволит среда! Это ведь не занятие для сына досточтимого хаз-рета!» [Ибрагимов 1980: 46]. По философской концепции автора Зия относится к группе «слабых людей», его природа «не приемлет открытой борьбы против всей среды».
Свою неосуществленную мечту «стать известным мударисом в городе» Джалял-мулла хочет осуществить в сыновьях, поэтому он отдает Зию в медресе. Понятие «национальной действительности» в этот период жизни махдума характеризуется законами мектебов и медресе, порядками, установленными в них на протяжении веков: «Это особый мир, особое царство. У него есть своя собственная история, своя жизнь, которую нельзя менять, а также законы и обычаи, закрепленные стараниями многих учителей и мударисов. На протяжении многих веков жизнь в медресе протекала именно по этим обычаям и законам. Нарушение даже одного из них является большим грехом» [Ибраһимов 1975: 68]. В годы учебы в медресе мощь окружающей среды, ее давление на Зию умножаются многократно. Его желание наслаждаться музыкой загнано в строгие рамки мусульманского канона. Однако природная любовь Зии к музыке, его стремление к идеальной жизни заставляют героя сделать смелый шаг к преодолению ограничений своей среды. Он сближается с безбожным Садыком, известным на все медресе своей злобой, скверным языком и безнравственностью, и начинает посещать публичные дома. Пригласив в комнату «малонакрашенную, с молодым, безгрешным взглядом» девушку, Зия начинает слушать ее песни, которые больше нигде не услышишь, «все мелодии, дошедшие до нас на протяжении многих веков». Однако о его посещении домов «с красными фонарями» становится известно, и Зию выгоняют из медресе.
Фраза автора о том, что, «когда Зия попал в большое медресе далекого города, положение его еще больше усугубляется» [Ибраһимов 1975: 68], дает возможность понять безысходность ситуации, в которой оказался герой («Талант, вложенный в Зию рукой самого творца, музыкальная страсть, как бы ни рвались наружу, не могли вырваться, ибо всесильная среда давила их железными руками» [Ибрагимов 1980: 51]). Понятие «среда», таким образом, расширяется, по сути, становится орудием, формой противостояния национальным обычаям и традициям татар. Не случайно, что в качестве синонима автор использует понятие «судьба». Внутренние переживания Зии, не являясь переживаниями простого человека, обретают трагическое, почти экзистенциальное звучание: «Поэтому в его жизни господствовала очень сильная трагедия, необъяснимая ни умом, ни языком» [Ибраһимов 1975: 77].
Зия – любитель прекрасного, но «ему дорого не просто внешнее прекрасное, а духовная красота, соединенная с влюбленностью, национальностью и естественной природой» [ibid.: 81]. Когда Зию призывают в солдаты, он встречается с разными представителями татарской разночинной молодежи, шакирдами-выпускниками, друзьями детства. Одна из таких встреч происходит у Сафи. На этой встрече разгорается спор о будущем татарского народа, проблемах его европеизации, судьбе национальной культуры вообще. Зия предлагает готовить национальных художников и композиторов, которые могли бы своим искусством подвигать, побуждать народ к сохранению нации и могли бы своим талантом служить прогрессу народа. «Пусть родится от татарского сына великий в прямом смысле художник и композитор, способный раскрыть всю гармонию и глубинные тайны татарской души. Однако я не верю, что можно возродить, вдохнуть жизнь целому народу или роду... без этих двоих» [ibid.: 181].
Узнав из писем Зии о его планах на будущее, о его желании открыть музыкальные школы, Джа-лялетдин-мулла, который еще надеялся на то, что, вернувшись со службы, Зия станет ахуном или мударисом, рвет связи с сыном навсегда...
Когда герой служил солдатом, давление на него среды («темной силы»), ничуть не уменьшилось. По случаю возвращения Зии со службы Гусман организует у себя дома застолье. На этом вечере Зия, удрученный тем, что он не стал музыкантом, раскрывает свою душу поэту Кариму, говоря о своей мечте служить народу музыкой:
«В такие минуты, возможно, я и впрямь сумасшедший... Но я верю, я готов поклясться, что своей музыкой разбужу свой народ, очищу заплесневелые сердца, изменю тяжелую судьбу, освещу темную жизнь» [Ибрагимов 1980: 211]. Автор выражает взгляд национальной общественной мысли начала XX в. на обновление татарской жизни силой искусства. По мнению Г. Ибрагимова, музыка способна побуждать татарский народ двигаться вперед. Однако Зия, мечтавший изменить жизнь нации в лучшую сторону с помощью музыки, не выдержав давления старых порядков, безвременно умирает от сердечного приступа...
Небезынтересно, как в произведении изображено противоборство Сабира и среды. Сабир связывает свою жизнь с «низкой, грубой, простой» крестьянской реальностью, отказавшись от желаемого отцом учительства. Прежде чем прийти к такому решению, Сабир проходит через духовные искания и тернистый путь. В поисках места в жизни он пробует себя в разных профессиях: «Он учительствовал несколько лет, был наставником медресе; служил в конторах известных баев; пробовал заняться торговлей. Но ничто не захватило его, нигде не приобрел он душевного покоя» [Ибраһимов 1975: 40]. В некоторых моментах он схож с Салимом, героем рассказа Г. Ибрагимова «Один эпизод из жизни молодежи» (1908) [Гилазов 2017: 154–155], но имеются и существенные различия. Центром среды, с которой герой находится в противоречии, является «окунувшаяся с головой в моду и украшения дорогая городская жизнь [Ибраһимов 1975: 57]. На эту особенность указывал в свое время известный литературовед и критик Г. Нигмати [Нигмати 1958: 83–84].
Учеба, образование, культура – все это противоречит натуре Сабира, стремящейся избавиться от влияния среды, к свободе проявления личности. Хотя этот герой решительно отличается от романтических героев внешним портретом, умением себя держать, отношением окружающей среды к нему, автор описывает Сабира как душевного и духовного человека. «Если существует открытое противоречие души и природы человека с его жизнью, то свободолюбивое сердце этого не может вынести. И Сабир чувствовал в себе что-то такое» [Ибраһимов 1975: 57]. Эта особенность характера героя оказывает большое влияние на описание его противоречий со средой. Уход Сабира в деревню, посвящение своей жизни «земле» Г. Ибрагимов не мотивирует желанием обогатиться, а, наоборот, дает понять, что он это сделал по зову души. «Там будет моя, пусть хоть вершок, земля, моя соха, моя лошадь. Своими крепкими руками впрягу свою лошадь в свою соху, вспашу свою землю, посею, взращу хлеб, который будет принадлежать только мне» [Ибрагимов 1980: 42]. Если обратить внимание на речь Сабира, то можно заметить стилистическую особенность его языка: это язык романтической поэзии. В одном предложении девять раз повторяется слово «үз» («свое»), которое определяет черты характера романтически настроенного героя. «Я ведь не только словами и умом, а инстинктивно тянусь к деревне. Верно, все перечисленное тобой там может и не быть, однако будет то, чего желает моя душа. Я буду делать то, что сам пожелаю, буду хозяином себе и своей свободе. Буду свободным. Мне этого достаточно» [Ибраһимов 1975: 60].
Мы видим, что эти действия героя не связаны с национальными или социальными проблемами. «Сабира не интересуют общественные идеалы, не волнуют судьбы народа, для него важнее всего личное благополучие» [Хасанов 1977: 36]. На первое место он ставит желание души, собственное «я». Сабир отличается от других персонажей сильным и твердым характером, автор делает упор на открытую борьбу героя против среды, «даже если на его пути посыпятся камни с неба, он не остановится». Он, обладающий способностью «наводить страх на ближних какой-то скрытой злобой», побеждать, подчинять себе других, отличается от всей интеллигентной молодежи тем, что ему удается изменить судьбу, преодолеть ограничения среды. Философская концепция автора, согласно которой есть люди, которые «не похожи на других, не плывут по течению судьбы, а победив среду, разворачивают судьбу в нужное им русло» [Ибраһимов 1975: 93], приобретает художественное воплощение именно в этом герое. В рецензиях, написанных в 1910-х гг., отмечается, что «среди героев произведения, кроме Сабира, между их мыслью и жизнью лежит какая-то пропасть» [Гыйлаҗев 2010: 80].
Своеобразное решение конфликта среды и героя прослеживается в судьбе нежной, любящей и мечтательной Марьям. Автор делает акцент на том, что она является рабыней среды, и в этой части произведения он снова возвращается к философии «сильных» и «слабых» людей. «В романе достаточно большое место занимает образ Марьям-туташ», – пишет Г. Губайдуллин. – По словам автора и по содержанию романа мы видим, что она, будучи еще девочкой, была рабыней среды, “тихой, скромной девочкой”» [Гобәйдуллин 2008: 82]. Противопоставленное Марьям окружение – это, с одной стороны, деревенская жизнь, ее простой и незатейливый быт, а с другой – объективное социальное положение. «В ней уживаются два мира: один, внешний и чуждый для нее – деревенская жизнь, второй, близкий и дорогой – хоромы Гарея-мирзы. Эти два мира абсолютны противоположны друг другу и их влияния на Марьям – различны» [Ибрагимов 1980: 41].
Низкой, излишне материальной, «представшей перед глазами, словно море грубости и простоты» деревенской жизни противостоит «похожий на дворец падишаха... большой и красивый дом» Гарея-мирзы. Марьям воспитывается в хоромах Гарея-мирзы, закрывшись от внешнего влияния среды. Джалялетдин-мулла наряду с Га-реем-мирзой является авторитетом в деревне, поэтому и Фатима-бике общается с семьей хаз-рета. На этой почве появляется возможность встречи скромного, доброго сына Зулейхи-абыс-тай Зии, в отличие от деревенских парней одевающегося очень чисто и аккуратно, с Марьям. По мере взросления Марьям в ее жизнь входят обычаи и традиции национальной жизни и законы шариата и исламской культуры. Проходит детство, Марьям вступает в пору юности, и «темная сила» ограничивает их встречи. «Наступила юность. Среда им тут же заявила: теперь вы “намахрамы”2» [Ибраһимов 1975: 99].
Во время учебы в женском мектебе в душе Марьям зарождается чувство первой любви, а в годы дружбы Зия предстает перед ней в ином свете. Приравненный в мечтах девушки к героям турецких романов, красавец Зия своим красивым голосом признается ей в любви. Однако любовь молодых наталкивается на противоречие порядков и обычаев татарской жизни. Они начинают писать друг другу любовные письма, при малейшей возможности втайне от родителей и деревенского люда встречаются в укромных местах: «В те годы Зия приезжал домой каждое лето; живя в соседних домах, они не имели возможности встретиться, разговаривать на людях, лишь темные ночи соединяли их, а густые кусты и старые дубы большого сада скрывали от злых языков» [ibid.: 109]. Влюбленность двоих превращается в большую любовь: как Марьям полностью была привязана к Зие, так и он обожествлял девушку: «...пусть этот счастливчик хоть разок взглянет в лунные ночи или на рассвете в таинственное, мечтательное лицо Марьям, в большие черные глаза, полные божественного блеска, – клянусь, он потеряет волю, забудет о себе и на всю жизнь станет рабом этого лица, глаз, излучающих духовную красоту, щедрость сердца, – этого избранного творения Всевышнего» [Ибрагимов 1980: 76]. Непоколебимые каноны татарской жизни, т. е. среда, встают на пути счастья молодых. Зию призывают на службу, а Марьям, находясь в тяжелом состоянии, по настоянию Фатимы-бике выходит замуж за Фахри-мирзу, и этим превращает жизнь своей дочери в настоящий ад. Смерть Фахри, выпившим яд за сараем дома, дает почву для обвинения Марьям в убийстве мужа, за что ее ссылают на шестилетнюю каторгу. Жизненный путь Марьям трагически обрывается под натиском среды, правил и обычаев повседневной жизни мурз и «отцовской» силы.
Таким образом, роман трагедии Г. Ибрагимова «Молодые сердца» выделяется среди других произведений начала XX в. и своим содержанием, и художественным замыслом. Раскрытое в контексте основного конфликта «отцов» и «детей» содержание «среды» в ее противостоянии героям приобретает различные смысловые оттенки. Персонажи, которые описаны в романе, стремятся избавиться от окружающего давления. Автор утверждает, что человек, живя в обществе, не может быть свободным от его влияния. Лишь избавившись от условностей среды, герои могут изменить общество и служить прогрессу татарского народа.
Tagir Sh. Gilazov
Associate Professor in the Department of Tatar Literature
Kazan Federal University
ResearcherID: D-8774-2015
Список литературы Конфликт среды и героев в романе Г. Ибрагимова "Молодые сердца"
- Гилазов Т Ш. Вклад Джамала Валиди в историю литературной мысли у татар // Филология и культура. Philology and Culture. 2015. № 4(42). С. 206-210.
- Гилазов Т. Ш. Рассказ Г. Ибрагимова "Один эпизод из жизни молодежи" в литературной критике 1910-х годов // Филология и культура. Philology and Culture. 2017. № 2(48). С. 153-158.
- Гобәйдуллин Г. Яшь әдәбиятыбызда - "Яшь йөрәкләр" // Гыйлаҗев Т Ш. Рецензияләрдән - тәгъзияләргә: ХХ йөз башы татар әдәби тәнкыйте. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2008. Б. 78-84.
- Гыйлаҗев Т Ш. Г. Ибраһимовның "Яшь йөрәкләр" романы һәм гыйльми-тәнкыйди фикер // Фәнни язмалар - 2008: фәнни мәкаләләр җыентыгы / Фәнни мөхәррире: И. А Гыйләҗев; төзүчесе: Ә. Ш Юсупова. Казан: Ихлас, 2010. Б. 66-73.
- Загидуллина Д. Ф. История науки о литертуре у татар: учеб. пособие. Казань: Казан. ун-т, 2011. 132 с.
- Заһидуллина Д Ф. Дөнья сурәте үзгәрү: ХХ йөз башы татар әдәбиятында фәлсәфи әсәрләр. Казан: Мәгариф, 2006. 191 б.
- Ибрагимов Г. Молодые сердца. Роман и рассказы / пер. с тат. Р. Фаткуллиной. Казань: Татарское кн. изд-во, 1980. 240 с.
- Ибрагимов Г. "Я жизнь искал, смысла жизни искал..". / авт. текста на татарском языке Д. Ф. Загидуллина. Казань: Институт языка, литературы и искусства, 2017. 336 с.
- Ибраһимов Г. Әсәрләр: сигез томда. Т. 1: Хикәяләр (1907-1929). Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1974. 477 б.
- Ибраһимов Г. Әсәрләр: сигез томда. Т. 2: Яшь йөрәкләр, Казак кызы. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1975. 477 б.
- Ибраһимов Г. Әдәбият кануннары. Теория словесности. Казан: Изд. Товарищества "Сабах", 1919. 77 б.
- Нигъмәти Г. Г. Ибраһимов һәм аның әдәби иҗат юлы // Сайланма әсәрләр. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1958. Б. 73-91.
- Нуруллин И. Галимҗан Ибраһимов // ХХ йөз башы татар әдәбияты. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1982. Б. 159-176.
- Сәгъди Г. Татар әдәбияты тарихы // Габдрахман Сәгъди: фәнни-биографик җыентык / Төзүчеләр: Д. Заһидуллина, Ч. Гыйлаҗева. Казан: Җыен, 2008. Б. 52-189.
- Хасанов М Х. Галимджан Ибрагимов. Казань: Татарское кн. изд-во, 1977. 432 с.
- Хәсәнов М Х. Галимҗан Ибраһимов: шәхесе һәм иҗаты, ул яшәгән заман турында уйланулар (тууына 115 ел тулу уңае белән) // Галимҗан Ибраһимов һәм хәзерге заман: Тууына 115 ел тулуга багышланган фәнни конференция материаллары. Казан: Фикер, 2002. Б. 4-12.
- Baldauf I. Prometheismusin der circumrevolutionarentatarischen Lyrik // Bamberger Mittelasienstudien / Hrsg. Bert G. Fragner, Birgitt Hoffman. Berlin, 1994. S. 25-66.
- Friedrich M. Gabdullach Tuqaj (1886-1913) // Ein hochgelobter Poet im Dienst von tatarischer Nation und sowjetischem sozialismus. Wiesbaden, 1998. 340 S.
- Kellman S. G. The Self-Begetting Novel. L.; Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1980. X p. 161 p.
- Shaffer B. W. Reading the Novel in English 1950-2000. Blackwell Publishing, Malden, MA., 2006. 265 p.