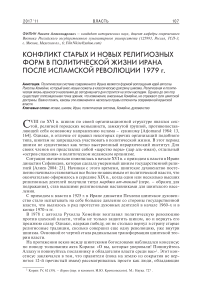Конфликт старых и новых религиозных форм в политической жизни Ирана после исламской революции 1979 г
Автор: Филин Никита Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 11, 2017 года.
Бесплатный доступ
Политическая система современного Ирана является формой воплощения идей аятоллы Рухоллы Хомейни, который внес новые сюжеты в классическую доктрину шиизма. Религиозная и политическая жизнь иранского населения до сегодняшнего дня строится на этом наследии. Однако до сих пор существует оппозиционная точка зрения, что изменения, внесенные Хомейни, не отражают сути шиитской доктрины. Важно понять, каковы эти изменения и насколько правы оппоненты современной иранской власти.
Ислам, шиизм, иран, политическая система, хомейни, духовенство
Короткий адрес: https://sciup.org/170168629
IDR: 170168629
Текст научной статьи Конфликт старых и новых религиозных форм в политической жизни Ирана после исламской революции 1979 г
С VIII по XVI в. шиизм по своей организационной структуре являлся сектой, религией городских меньшинств, замкнутой группой, противопоставляющей себя основному направлению ислама – суннизму [Arjomand 1984: 13, 164]. Однако, в отличие от правил некоторых прочих организаций подобного типа, шиитам не запрещалось участвовать в политической жизни. В этот период шиизм не существовал как четко выстроенный иерархический институт. Для своих членов он представлял собой «царство веры» (дар аль-иман), отдельный «остров спасения» в политическом исламском организме.
Ситуация значительно изменилась в начале XVI в. с приходом к власти в Иране династии Сефевидов, которая сделала умеренный шиизм государственной религией [Алиев 2004: 23]. Начиная с этого времени, шиитское духовенство постепенно начинало становиться все более независимым от политической власти, что окончательно оформилось в середине XIX в., когда один или несколько высших религиозных деятелей получили титул марджа ат-таклид (перс. – образец для подражания), став высшими религиозными наставниками для шиитского населения.
С приходом к власти в 1925 г. в Иране династии Пехлеви шиитское духовенство стало испытывать на себе большее давление со стороны государственной власти, что вылилось в ряд протестов духовных деятелей в начале 1960-х и в конце 1970-х гг.
В 1978 г. аятолла Рухолла Хомейни возглавил политическую революцию против шахской власти, чтобы не только защитить шиизм, но и вернуть его прежнюю славу. Однако, одержав победу, он не столько вернул в страну старые религиозные традиции, сколько совершил еще одну революцию, уже внутри шиизма. Основной ее чертой стала радикальная трансформация шиитской теории власти.
На протяжении веков между шиитскими богословами наблюдался консенсус по поводу толкования аята Корана: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас»1. Этот консенсус заключался в том, что правители (пока на землю из сокрытия не вернется 12-й пречистый имам) рассматривались просто как люди, обладающие властью, которые не застрахованы от грехов и ошибок. Их легитимность ставилась под вопрос, но, исходя из слов 6-го праведного имама Джафара ас-Садика, разрешалось подчиняться «неистинной» власти, если это вело к улучшению жизни шиитов. Более того, 5-й и 6-й праведные имамы запретили вооруженное восстание против «незаконной» власти без их разрешения [Arjomand 1984: 139]. То есть, политическая сфера оставалась за различными светскими властителями.
Это положение как раз и изменил Рухолла Хомейни, который, находясь в ссылке в начале 1970-х гг., выдвинул концепцию велайат-э факих (правление исламского правоведа), заключающуюся в праве высшего духовного авторитета шиизма на полную власть.
Хомейни писал: «Глава власти должен быть совершенным с точки зрения религии и морали, быть справедливым и не быть грешником. ‹…› Монархи, если они истинные мусульмане, должны следовать факихам, обращаться к ним по вопросам законотворчества и делать то, что они говорят. В этом случае настоящие правители – факихи, а значит, власть должна официально принадлежать факихам, а не тем, кто из-за незнания законов должен обращаться к ним за разъяснениями» [Хомейни 2006: 30].
Идеи Хомейни нашли свое полное воплощение в принятой в декабре 1979 г. Конституции Ирана, что особенно отразилось на должности лидера страны (рахбара), который наделялся огромными как религиозными, так и политическими полномочиями. До своей смерти в 1989 г. таковым являлся сам аятолла Рухолла Хомейни. В преамбуле основного закона страны было написано, что, согласно принципу передачи власти Богом пророкам и имамам, а также принципу непрерывного правления имамов (имамат), Конституция подготавливает почву для того, чтобы мусульманский правовед, отвечающий всем требованиям и признанный народом в качестве своего руководителя, мог управлять государством. Она должна гарантировать отсутствие отклонений от выполнения различными организациями и институтами своих подлинных исламских обязанностей. Также там сказано, что управлять делами могут только те знатоки исламского права, которые поняли главные божественные установления: что является разрешенным, а что – запретным1.
Институту рахбара было посвящено несколько статей Конституции. В ст. 5 на него возлагались обязанности, связанные с имаматом (то есть, замещение сокрытого имама, пока тот не появится вновь), и управление делами правоверных мусульман во всем исламском сообществе. Рахбару необходимо было быть справедливым, набожным, смелым, рассудительным, обладать обширными знаниями об окружающем пространстве и времени, а также иметь организаторские способности. Его руководство должно было быть признано и одобрено большинством народа. В случае если ни один правовед не получал такого большинства, обязанности руководства страной, в соответствии со ст. 107 рассматриваемой конституции, должен был принять либо один из этих правоведов, либо руководящий совет, состоящий из 3 либо 5 квалифицированных знатоков исламского права.
Эти положения столкнулись с двумя серьезными возражениями оппонентов Хомейни. Во-первых, исходя из теории классического шиизма, во время сокрытия 12-го имама авторитет духовного деятеля не мог быть перенесен с религиозной на политическую сферу. Во-вторых, мандат, данный духовенству на религиозное руководство, относился к коллективному действию всех шиитских право- ведов. Он не мог быть ограничен властью только одного или нескольких человек. Эти возражения были озвучены рядом высших религиозных деятелей после Исламской революции 1979 г., однако против данных деятелей были развернуты активные репрессии [Arjomand 1988: 180].
Еще одним важным изменением шиитской традиции политической власти стало выстраивание концепции сакральности политического порядка, сложившегося после Исламской революции 1979 г. По словам Хомейни, «cохранение Исламской Республики является божественной обязанностью, которая стоит выше всех других обязанностей» [Arjomand 1987: 128].
Данную концепцию можно охарактеризовать как отход от классических религиозных форм в сторону политического действия. Многие представители иранской элиты на протяжении всей истории существования Исламской Республики Иран публично отстаивали эти идеи, создавая более прочный идеологический каркас политической и религиозной жизни в государстве.
В этом плане значительный интерес вызывает утверждение нынешнего лидера страны Али Хаменеи, что «концепция велайат-э факих является одной из основ шиитской веры и вытекает из вопросов исламского правления и имамата» [Практическое руководство… 2013: 31].
Хаменеи вторят различные представители иранской элиты. Среди них можно указать, например, исполняющего обязанности пятничного имама в городе Санандаждже, который заявил, что подчинение велайат-э факих обязательно для всех. По его словам, «народ Исламского Ирана, ведомый “наместником”, подчиняясь мудрым заветам Великого лидера Исламской революции, движется в сторону милости. Уже сейчас священный строй Исламской Республики Иран стал практическим примером для исламских народов, и по божьей воле на фоне волны исламского пробуждения в регионе мы видим, как мусульмане берут пример с основанного на “наместничестве” строя Исламской Республики Иран»1.
Похожие слова произнес политический эксперт Корпуса стражей Исламской революции Абутараб Катеби, заявив, что «в период сокрытия беспрекословное подчинение велайат-э факиху объективно обязательно».
Руководитель Совета по координации Организации исламской пропаганды в Западном Азербайджане Абд ар-Рахим Нейсари заявил, что «священный строй Исламской Республики Иран – единственный строй, и правление в мире, установленное по примеру, взятому из ислама, и является единственным божественным правлением в мире»2.
Данные высказывания звучат постоянно с различных трибун и в средствах массовой информации. Так же обстоит дело и с актуализацией политической деятельности в рамках исламской идеологии. Этот процесс очень хорошо охарактеризовал аятолла Али Мешкини, заявив, что «политическая деятельность – это действующий (шариатский) долг. Сегодня одним из самых важных актов преданности является политическая деятельность, потому что без политики наша религиозность не будет продолжаться» [Arjomand 1988: 182].
Таким образом, созданный после Исламской революции 1979 г. в Иране сакра-лизованный новый шиитский политический порядок требует от человека безусловного повиновения в качестве религиозного долга, что в корне отличается от классической шиитской традиции. В этом плане разработанная и реализованная на практике аятоллой Хомейни концепция велайат-э факих действительно является революционным нововведением в шиизме.
Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант № МК-5496.2016.6).
Список литературы Конфликт старых и новых религиозных форм в политической жизни Ирана после исламской революции 1979 г
- Алиев С.М. 2004. История Ирана XX. М.: Крафт+. 648 с
- Практическое руководство по разъяснению вопросов, написанное имамом Хомейни (шесть марджа) c обновлениями и дополнениями, содержащими последние фетвы аятолл: Бахджата, Хаменеи, Систани, Сафи Гольпайегани, Макарема Ширази. Мешхед. 2013
- Хомейни Р. 2006. Правление факиха: исламское правление. Тегеран
- Arjomand S.A. 1984. The Shadow of God and the Hidden Imam: religion, political order, and societal change in Shi'ite Iran from the beginning to 1890. Chicago: University of Chicago Press. XII+355 p
- Arjomand S.A. 1987. Revolution in Shiism. -Islam and the Political Economy of Meaning (RLE Economy of Middle East). N.Y.: Taylor and Francis. P. 111-131
- Arjomand S.A. 1988. The Turban for the Crown: the Islamic Revolution in Iran. N.Y., Oxford: Oxford University Press. XII+283 p