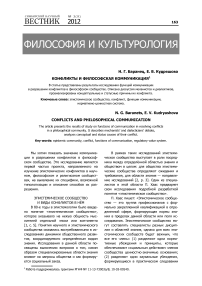Конфликты и философская коммуникация
Автор: Баранец Наталья Григорьевна, Кудряшова Елена Викторовна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования функций коммуникации в разрешении конфликтов в философском сообществе. Описана дискуссия механистов и диалектиков, проанализированы концептуальные и статусные причины их конфликта.
Эпистемическое сообщество, конфликт, функции коммуникации, нормативно-ценностная система
Короткий адрес: https://sciup.org/14113692
IDR: 14113692
Текст научной статьи Конфликты и философская коммуникация
Мы хотим показать значение коммуникации в разрешении конфликтов в философском сообществе. Это исследование является первой частью проекта, направленного на изучение эпистемических конфликтов в научном, философском и религиозном сообществах, на выявление их специфики, возможной типологизации и описание способов их разрешения.
ЭПИСТЕМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
И ВИДЫ КОНФЛИКТОВ В НЁМ
В 80-е годы в эпистемологии было введено понятие «эпистемическое сообщество», которое указывало на некую общность мыслителей отдельной эпохи или континента [1, с. 5]. Понятия научного и эпистемического сообщества оказались востребованными в исследованиях динамики общественного развития, координируемого определённым видом знания. Исследования в данной области посвящены выяснению вопросов о том, каким образом специализированные области знания влияют на запросы общества и как формируется социальный заказ.
В рамках таких исследований эпистеми-ческое сообщество выступает в роли посредника между определённой областью знания и обществом в целом: для общества эпистеми-ческие сообщества определяют ожидания и требования, для области знания — направление исследований [2, p. 3]. Один из специалистов в этой области П. Хаас предваряет свои исследования подробной разработкой понятия «эпистемическое сообщество».
П. Хаас пишет: «Эпистемическое сообщество — это группа профессионалов с формально закрепленной квалификацией в определенной сфере, формирующая нормы знания в пределах данной области или поля исследования. Эпистемическое сообщество могут составлять специалисты разных дисциплин и областей знания, однако для всех эпи-стемических сообществ будет важным, что все его члены: (1) разделяют одни нормативные убеждения и принципы, которые обеспечивают социальным действиям членов сообщества ценностно-значимые основания; (2) разделяют одни каузальные убеждения, формирующиеся в практическом следовании
1 Работа поддерживалась грантами РГНФ № 11-13-73003а/В, 10-03-00540.
или содействии решению центральных проблем области знания, служащие также основанием объяснения множества взаимосвязей между возможными установками и ожидаемыми результатами; (3) разделяют одни представления об обоснованности — то есть об интерсубъективном, внутренне определенном критерии оценки или обоснования знания в пределах области их квалификации; и (4) общие установки деятельности…» [2, p. 3]. Такое определение оказывается довольно удачным, поскольку позволяет зафиксировать универсальные характеристики сообществ специалистов в любой области знания.
Разработки понятия философского сообщества были изначально ориентированы на понятие «научное сообщество». Показательна в этом отношении статья М. А. Розова «Философия без сообщества?». Анализируя проблему нарушения норм профессиональной деятельности специалистов по философии, автор проводит параллели между научным и философским сообществом [3, с. 23—36]. Наличие таких параллелей указывает, по всей видимости, на факт отождествления основных параметров научного и философского сообщества.
Вопрос о том, насколько близки понятия научного и философского сообщества, насколько возможно представить понятие научного сообщества в качестве родового для понятия философского сообщества, упирается в вопрос о том, насколько близки наука и философия. И. Г. Тимошенко, сближая научную и философскую систему знания, стремится установить критерии научности философии и указывает среди них верность методам научной рациональности и единство с ее содержанием и достижениями; полноту использования фундаментальных философских, научных и социально-исторических фактов, относящихся к поднимаемым проблемам; естественность трактовки объектов оснований и производных решений [4, с. 6]. Однако автор отмечает: «В философском мышлении логический порядок научного мышления сплошь и рядом ломается и заслоняется хаосом, беспорядком индивидуального мышления» [4, с. 10]. Формализовать эти индивидуализированные элементы философии не удается, однако в большинстве философских систем они являются обязательной, сущностной составляющей.
Философия представляет собой совокупность независимых и несводимых друг к другу философских традиций. На этом основании можно утверждать, что понятие дисциплинарного сообщества специалистов в области философии является условным, использующимся для фиксации совокупности локальных философских сообществ, каждое из которых организовано той или иной философской традицией . Поскольку философские традиции содержательно отличны друг от друга, концептуальные элементы, транслируемые соответствующими локальными философскими сообществами, также различны. При этом модель организации локальных философских сообществ едина.
Следуя методологии анализа познавательных сообществ, выработанной в философии науки, в построении идеальной модели локального философского сообщества необходимо учитывать два типа единства — концептуальное и социальное , где концептуальное связано с идейно-методологическим единством познавательных программ, а социальное — со скрытой или актуальной демонстрацией этого единства.
Регуляция локального философского сообщества возможна прежде всего на уровне единства концептуального содержания: философ, поддерживая общую познавательную программу, удерживается в статусе члена сообщества. Причастность к локальному философскому сообществу обнаруживает себя в нескольких моментах.
Прежде всего, важным оказывается способность говорить на одном философском языке, использовать такой категориальный аппарат, в котором каждая категория обозначает такое явление или признак или отношение, значимое для всех членов философского сообщества вне зависимости от того, как отдельный философ к нему относится и как часто использует. Разница в значениях философских понятий и категорий особенно заметна, когда речь идет о «национальных» философских традициях, что четко прослеживается в переводах. Другим важным элементом концептуального единства локального философского сообщества являются представления о наиболее значимых философских системах и философских текстах. В. В. Бибихин отмечает: «Философия не состоялась бы без философских школ, без преданной готов- ности последователей воплотить в себе чужое слово. На верности мудрой системе, возвышенной мысли всегда стояла община философов. Без людей, преданных букве Книги, у нас бы не было книги» [5, с. 100]. Таким образом, философское сообщество всегда связано с представлением о «классических», образцовых философских системах и философских текстах.
Анализируя особенности деятельности «языковой личности», Ю. Н. Караулов указывает, что для каждой личности существует определенная группа так называемых «прецедентных» текстов. «Прецедентным» можно назвать текст, который (1) значим для той или иной личности в познавательном или эмоциональном отношении; (2) хорошо известен окружению данной личности, включая её предшественников и современников; и такой (3), обращение к которому возобновляется неоднократно в дискурсе данной личности [6, с. 216]. Следуя методологии автора в отношении локального философского сообщества, можно также указать класс «прецедентных» философских текстов. «Прецедентный» философский текст (1) значим для определенного локального философского сообщества, имеет статус «классического», образцового; (2) хорошо известен каждому из членов сообщества; (3) требует постоянного обращения в дискурсе данной философской традиции.
«Прецедентные» тексты могут выступать в качестве «третейского» судьи в разного рода спорах в качестве авторитета, обращение к которым гарантирует подтверждение или опровержение идей; могут быть методологическими образцами познавательной деятельности; отправными точками познания, отталкиваясь от которых философы создают свои философские системы и пр.
Опора на определенные философские системы и «прецедентные» философские тексты определяет еще одну важную концептуальную составляющую, позволяющую локальному философскому сообществу сохранять свое единство, — совокупность норм познания, основанных на принципиально важных идеях и принципах и представлении о способах философствования.
Для локального философского сообщества определённые философские системы и философские тексты выступают в качестве идеала познавательной деятельности. Члены локального философского сообщества ориентируют свои исследования на эти идеалы и тем самым нормативируют философствование, вводят его в определённые рамки, в которых предзаданы возможные и невозможные «творческие» шаги.
Локальное философское сообщество, ориентирующееся на «классические», образцовые философские системы и «прецедентные» философские тексты, проявляет к ним особый интерес. В частности, особое внимание уделяется выявлению основных идей и принципов этих философских систем и текстов, служащих для членов сообщества предпосылками собственных исследований. Подобно аксиомам в математике, эти идеи и принципы воспринимаются нерефлексивно, определяя то, что будет очевидным для познающего. Например, для религиозной философии не существует выбора между материалистической и идеалистической позицией, поскольку принципиально важная идея для нее заранее предопределена.
Не менее важно для локального философского сообщества перенять из «классической», образцовой философской системы или «прецедентного» философского текста методологию получения познавательного результата. В данном случае интерес представляют не столько идеи и принципы, сколько способы их получения (выведения), которые становятся образцами познавательной деятельности.
Появление нормы, связанное с ориентацией на идеалы, не ограничивает возможности познавательной деятельности, а регулирует их. Кроме того, следование нормам в значительной степени гарантирует приемлемость результата познавательной деятельности всеми членами сообщества: общепринятость норм предписывает локальному философскому сообществу принять результат познавательной операции, регулируемой этой нормой.
Нормативность в деятельности локальных философских сообществ хорошо просматривается в функционировании чётко оформленных сообществ, например в советском, которое поддерживало марксистскую программу познания. Историки указывают, что в советской философии были прецеденты «отклонения» от общей идеологической программы марксизма, но это не были прецеденты отклонения от марксизма как такового.
Поскольку локальное философское сообщество существует внутри дисциплинарного сообщества, в ситуации сосуществования с другими локальными философскими сообществами, оно вынуждено вырабатывать способы противопоставления себя другим . Источниками противостояния и конфликтов в философском сообществе могут быть борьба за вознаграждение и обретение статуса, концептуальные и личностные причины. Полагаем, что целесообразно разделять концептуальные, статусные и личностные конфликты.
Концептуальные конфликты могут быть теоретическими и догматическими. Теоретические конфликты возникают из-за концептуальных расхождений в рамках сложившихся дисциплинарных матриц. Они редко носят деструктивный характер, способствуя плодотворной конкуренции идей. Доктринальные конфликты происходят из-за доктринальных противоречий внутри дисциплинарного сообщества. Статусные конфликты подразумевают борьбу за ресурсы, престиж и социальное положение. В философском сообществе они не являются явно выраженными. Участвующие в таком конфликте философы стремятся представить ситуацию как борьбу за истину и справедливость. Статусные конфликты особенно деструктивны в недемократических обществах, поскольку здесь ограничено действие саморегуляции, а доминирующая группа часто прибегает к административной поддержке.
В качестве примера переплетения мотивов конфликта и возможности их саморазрешения в нормально функционирующей коммуникации в эпистемическом сообществе приведем дискуссию между механистами и диалектиками. Обе стороны известной дискуссии — и механицисты, и диалектики — были ревизионистами в отношении ортодоксального марксизма. Расхождение позиций между механицистами (И. В. Скворцов-Степанов, Л. И. Аксельрод, А. Варьяш, А. К. Тимирязев) и диалектиками (А. М. Деборин, Г. К. Бам-мель, Б. М. Гессен, Н. А. Кареев, С. Г. Левит, И. П. Разумовский, Я. Э. Стэн) по некоторым непринципиальным вопросам наметилось еще в 1923 году.
Поводом для начала открытой дискуссии была публикация в 1924 году книги голландского социал-демократа Г. Гортера «Исторический материализм», в которой был сделан акцент на качественном отличии историче- ского материализма от материализма философского, не исключалась возможность соединения исторического материализма и некоторых положений из идеалистических философий. И. И. Степанов, переводивший книгу Г. Гортера, написал послесловие (1924) и специальную статью «Исторический материализм и современное естествознание» (1925). В них он поставил задачу выяснить отношение исторического материализма к философскому материализму и естествознанию. По его мнению, исторический материализм продолжает то дело, которое в одной своей части выполнено современным естествознанием, ибо «для марксизма не существует области какого-то философствования», отдельной и обособленной от науки.
В журнале «Большевик» в 1924 году Я. Стэн напечатал статью «Об ошибках Гор-тера и тов. Степанова», в которой указал, что И. В. Скворцов-Степанов, во-первых, принизил роль диалектического метода по отношению к естествознанию, во-вторых, регрессировал от диалектического материализма к материализму механистическому. Действительно, И. В. Скворцов-Степанов доказывал, что наука выяснила так много из превращения форм энергии, что нигде не остается места для «жизненной силы» живых организмов, которая в своем действии есть изъятие из закона сохранения энергии. Нигде нет таинственных форм энергии, поэтому «…марксист должен прямо и открыто сказать, что он принимает это так называемое механистическое воззрение на природу, механистическое понимание её. Недостойно марксиста приходить в трепет перед попами или давать грубые формулировки этого понимания и затем отмежевываться вообще от механистической точки зрения на процессы природы» [7, с. 166].
Я. Стэн, апеллируя к авторитету Ф. Энгельса, отмечает, что тот был против смешения органических и химических процессов. Он высказывает требование качественноконкретного исследования, так как диалектический материализм выступает против перенесения специфических закономерностей данного вида процесса на другие формы процессов. Я. Стэн дает совет И. В. Скворцову-Степанову: «…не выдавать того, что является его «личным», «индивидуальным» взглядом, за марксистскую философию, за ортодоксальный марксизм» [8, с. 89].
И. В. Скворцов-Степанов опубликовал ответ на статью Я. Стэна «О моих ошибках, «открытых и исправленных» тов. Стэном», в которой утверждал, что между его концепцией и механистическим материализмом XVIII века нельзя проводить аналогии. Он доказывал, ссылаясь на К. А. Тимирязева, что все достижения современной физиологии приобретены только благодаря приложению к жизненным явлениям физических и химических методов исследования, благодаря распространению на них физических и химических законов. Не всякое распространение законов развития более низких форм движения материи на более высокие их формы есть механицизм в том смысле, который был раскритикован Марксом, Энгельсом и Лениным. И. В. Скворцов-Степанов предлагал философски осмыслить ситуацию, сложившуюся в современной физиологии, когда результаты получают благодаря распространению физических законов на явления жизни, а не навешивать ярлыки «механицизма».
В дальнейшем дискуссия перешла на страницы журнала «Под знаменем марксизма». После выхода в 1925 году книги И. В. Скворцова-Степанова «Современное естествознание и исторический материализм» был организовано её обсуждение в Государственном Тимирязевском научно-исследовательском институте. Большая часть участников поддержала позицию автора и приветствовала появление книги. Тем не менее И. В. Скворцов-Степанов в заключительном слове выразил опасение, что науке угрожает опасность со стороны возрождающихся философских систем.
Обсуждалась книга И. В. Скворцова-Степанова и в Первом Московском университете. Основными оппонентами были И. В. Скворцов-Степанов и А. К. Тимирязев, с одной стороны, Я. Э. Стэн и Н. А. Кареев — с другой. Она имела большой резонанс, но принципиального изменения в аргументах противников не было.
Следующая фаза противостояния была связана с дискуссией в Институте научной философии Российской ассоциации научноисследовательских институтов общественных наук весной 1926 года. Дискуссия возникла в связи с докладом аспиранта по философии Бергсона, который стал поводом для обсуждения проблем истории философии. Л. Ак- сельрод, А. Богданов, А. Варьяш, А. К. Тимирязев в своих выступлениях указали на свои расхождения с трактовкой А. М. Деборина некоторых историко-философских проблем. Они обвинили А. М. Деборина в «неогегельянстве» и «схоластике». В свою очередь, А. М. Деборин назвал их выступление «ревизионистским», направленным на борьбу с марксизмом. Дискуссия длилась с марта по май 1926 года в виде ежедневных собраний продолжительностью по 4 часа. Но опубликовано было только заключительное слово А. М. Деборина, произнесенное 18 мая 1926 года во второй книге «Летописи марксизма». Так как статья «Наши разногласия» была ответом на речь механицистов, но опубликована без самих выступлений, это вызвало возмущение. Л. И. Аксельрод, А. К. Тимирязев в журнале «Красная новь» и сборнике «Диалектика в природе» опубликовали статьи с изложением своих позиций, что было остро необходимо после заявления А. М. Деборина, «…что группировка, возглавляемая тов. Аксельрод и Тимирязевым, носит определенно ревизионистский характер».
Пользуясь административным ресурсом, деборинцы 7 января 1927 года на собрании Общества воинствующих материалистов (ОВМ) приняли резолюцию, проводящую их позицию. В ней говорилось, что ОВМ считает своей задачей основное внимание в ближайший период времени обратить на борьбу за материалистическую диалектику против отвергающего её ревизионизма. Для осуществления этой цели общество считает необходимым, согласно завету Ленина, рассматривать себя как «общество материалистических друзей гегелевской диалектики». И. В. Скворцов-Степанов опубликовал открытое письмо Обществу воинствующих материалистов, где выдвинул протест против обвинений, который вызвал сочувственные отклики. Поэтому де-боринцы провели решение Президиума Общества воинствующих материалистов, в котором заявили, что тов. Степанов и его сторонники «ревизуют диалектический материализм, т. е. марксизм-ленинизм».
Механицисты организовали публичный диспут, как противовес официальным собраниям, 19 декабря 1927 года в московском театре им. Мейерхольда на тему «Коренные вопросы диалектического материализма». В диспуте участвовали от механицистов Л. И. Ак- сельрод, А. Варьяш, А. К. Тимирязев, В. Сар-бьянов и др., от деборинцев — Н. А. Кареев, С. Г. Левит, И. П. Подволоцкий. Журнал «Под знаменем марксизма» отчет о диспуте дал своеобразно: в кратком изложении выступление Л. И. Аксельрод и полные выступления деборинцев. Это не могло не вызвать возмущение механицистов.
Напряжение в отношениях между дебо-ринцами и механицистами достигло апогея в 1928 году, когда из Общества воинствующих материалистов ушли механицисты. Поэтому деборинцы организовали Общество воинствующих материалистов-диалектиков, в котором имели возможность реализовать свою позицию. Но механицисты ответили, по определению Г. К. Баммеля, «двумя геростратовскими книгами»: И. Скворцов-Степанов — «Диалектический материализм и деборинская школа» и Л. И. Аксельрод — «В защиту диалектического материализма». «Переполненная сверх всякой меры ругательствами книга И. Степанова не вносит ничего нового в дискуссию. Книга Л. Аксельрод — откровенная защита стыдливого позитивизма под прикрытием марксистской терминологии» [9, с. 105].
Теоретически дискуссия больше не двигалась. Чтобы положить ей конец, деборинцы предприняли организационные меры. В Москве с 8 по 13 апреля 1929 года в Коммунистической академии была созвана Вторая Всесоюзная конференция марксистско-ленинских научных учреждений. В ней приняли участие 229 делегатов, представлявших научно-исследовательские учреждения Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева и других городов. На конференции был подведен итог многолетней дискуссии между механицистами и диалектиками по основным вопросам естествознания [10, с. 65].
Пленарные доклады были сделаны А. М. Дебориным — «Современные проблемы философии марксизма» и О. Ю. Шмидтом — «Задачи марксистов в области естествознания». Прения имели обличительный характер. Механицисты чувствовали свое поражение и больше оправдывались, чем нападали. Группа А. М. Деборина победила, её назвали «школой ортодоксального марксизма», но торжество её было недолгим. Изменения, происходившие в организации партии большевиков, имели непосредственное влияние на дальнейшее состояние философского сообщества.
Теоретический итог дискуссии между механицистами и диалектиками исследователи советской философии считают незначительным. В фокус обсуждения попали следующие проблемы: о предмете марксистской философии, о взаимоотношении «простых» и «сложных» форм движения материи, о необходимости и случайности, о количественных и качественных изменениях, о значении гегелевской диалектики, о принципе партийности в философии.
Если оценивать характер дискуссий в философском сообществе 20-х годов, то стоит согласиться с мнением И. Яхота, считавшего, что «она носила относительно свободный характер». Об этом свидетельствует, во-первых, то, что появление работ высших партийных деятелей подвергалось критическому рецензированию (на книгу Н. И. Бухарина «Теория исторического материализма» В. Сарабьянов и С. Гоникман написали довольно резкие рецензии). Во-вторых, фактически не использовался административный ресурс — дебо-ринцы не покушались на изгнание с должностей своих оппонентов, хотя их выступления могли давать в урезанном виде или задерживать публикацию в журнале «Под знаменем марксизма». В-третьих, кажущиеся в исторической перспективе ужасающими обвинения в «ревизионизме», неправильной трактовке марксизма были, в сущности, нормой, установленной еще в спорах В. И. Ленина с Г. В. Плехановым и Л. И. Аксельрод, они не имели «убийственных» последствий в 20-е годы.
Тон личных нападок, ругательств и резкостей создавал специфический стиль, отражавший дух революционной эпохи и накал страстей. Свободным был обмен мнениями по принципиальным для марксизма проблемам, и имелась возможность отстаивать свою позицию как публично в дискуссиях, так и на страницах прессы. Мнение партийной печати не было определяющим. Но с лета 1930 года ситуация резко стала меняться.
-
1. Баранец, Н. Г. Метаморфозы этоса российского философского сообщества в XIX — начале XX веков : в 2 ч. Ч. 1 / Н. Г. Баранец. Ульяновск : УлГУ, 2007.
-
2. Haas, P. M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination / P. M. Haas // International Organization. Vol. 46. 1992. № 1.
-
3. Розов, М. А. Философия без сообщества? / М. А. Розов // Вопр. философии. 1988. № 8.
-
4. Тимошенко, И. Г. Философское познание и мышление : учеб. пособие / И. Г. Тимошенко. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2001.
-
5. Бибихин, В. В. Язык философии / В. В. Бибихин. 3-е изд., стер. СПб. : Наука, 2007.
-
6. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. М. : Наука, 1987.
-
7. Степанов, И. Послесловие / И. Степанов // Гортер Г. Исторический материализм. 1924.
-
8. Стэн, Я. Об ошибках Гортера и тов. Степанова / Я. Стэн // Большевик. 1924. № 11.
-
9. Баммель, Г. На философском фронте после октября / Г. Баммель . М., 1929.
-
10. Яхот, И. Подавление философии в СССР (20—30-е годы) / И. Яхот // Вопр. философии. 1991. № 9—11.
Список литературы Конфликты и философская коммуникация
- Баранец Н. Г. Метаморфозы этоса российского философского сообщества в XIX -начале XX веков: в 2 ч. Ч. 1/Н. Г. Баранец. Ульяновск: УлГУ, 2007.
- Haas P. M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination/P. M. Haas//International Organization. Vol. 46. 1992. № 1.
- Розов М. А. Философия без сообщества?/М. А. Розов//Вопр. философии. 1988. № 8.
- Тимошенко И. Г. Философское познание и мышление: учеб. пособие/И. Г. Тимошенко. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001.
- Бибихин В. В. Язык философии/В. В. Бибихин. 3-е изд., стер. СПб.: Наука, 2007.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность/Ю. Н. Караулов. М.: Наука, 1987.
- Степанов И. Послесловие/И. Степанов//Гортер Г. Исторический материализм. 1924.
- Стэн Я. Об ошибках Гортера и тов. Степанова/Я. Стэн//Большевик. 1924. № 11.
- Баммель Г. На философском фронте после октября/Г. Баммель. М., 1929.
- Яхот И. Подавление философии в СССР (20-30-е годы)/И. Яхот//Вопр. философии. 1991. № 9-11.