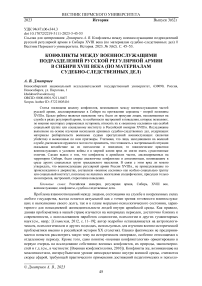Конфликты между военнослужащими подразделений русской регулярной армии в Сибири XVIII века (по материалам судебно-следственных дел)
Автор: Дмитриев А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя: грани региональных историй
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу конфликтов, возникавших между военнослужащими частей русской армии, дислоцированными в Сибири на протяжении середины - второй половины XVIII в. Целью работы является выяснение того, были ли присущи лицам, находившимся на службе в рядах регулярной армии, те особенности настроений и поведения, которые позволяют, по мнению некоторых современных историков, относить их к «военному сословию» как особой социальной группе или социальному институту в Российской империи XVIII в. Исследование выполнено на основе изучения нескольких архивных судебно-следственных дел, содержащих материалы разбирательств военными судами преступлений военнослужащих (включая убийства) и вынесенные по ним приговоры. Учитывая, что лица, находившиеся на военной службе, располагали оружием и могли его применять, что готовность к экстремальной ситуации оказывала воздействие на их психологию и поведение, то поведенческие практики военнослужащих в условиях войны и в мирной жизни вряд ли могли иметь существенные отличия. Сделан вывод о том, что конфликты в армейских частях, дислоцированных на территории Сибири, были скорее аналогичны конфликтам и антагонизмам, возникавшим в среде других социальных групп гражданского населения. В связи с этим вряд ли можно утверждать, что военнослужащие регулярной армии России XVIII в., не принадлежавшие по происхождению к дворянству, составляли «военное сословие» как особую социальную группу или социальный институт, поскольку не являлись носителями специфических, присущих только им интересов, настроений, стереотипов поведения.
Российская империя, регулярная армия, сибирь, xviii век, военнослужащие, конфликты, судебно-следственные дела
Короткий адрес: https://sciup.org/147245311
IDR: 147245311 | УДК: 94(47).06+344.3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-45-53
Текст научной статьи Конфликты между военнослужащими подразделений русской регулярной армии в Сибири XVIII века (по материалам судебно-следственных дел)
гических наук опять-таки для решения насущных проблем современности; историческая составляющая здесь отсутствует вовсе.
Не лучше обстоит дело и при обращении к тем или иным аспектам повседневной жизни в русской армии XVIII в. Ни в немногочисленных научно-популярных работах, посвященных этой сфере [ Карпущенко , 1999; Охлябинин , 2004], ни в мемуарах, оставленных теми, кто несли военную службу в XVIII столетии ( Болотов , 2013, с. 220–964; Винский , 1877; Данилов , 1991, с. 309–345), невозможно найти какие-либо сведения о конфликтах, возникавших между людьми в мундирах. Между тем эта сторона армейской повседневности может не только пролить свет на ряд особенностей, отличавших армию Российской империи в XVIII столетии (недаром, как отмечают современные исследователи, «о русских солдатах отзывались в то время как об одних из самых дисциплинированных в Европе» [ Леонов, Ульянов , 1995, с. 98]), но и способствовать поиску решения проблемы, поставленной Б. Н. Мироновым (на общетеоретическом уровне) и П. П. Щербининым, а именно: можно ли с уверенностью утверждать, что в структуре российского социума уже в XVIII в. существовало «военное сословие» как особая группа людей недворянского происхождения, однако обладавшая специфическим статусом, выделявшим ее из ряда ведущих сословных групп того периода?
Б. Н. Миронов утверждает, что «люди, попавшие в солдаты, переходили в состав “военного сословия”» [ Миронов , 2014, с. 446], при этом считая возможным относить представителей «военного сословия» к «разночинцам», которые «являлись промежуточной социальной группой между податными и привилегированными сословиями, поэтому они не попадали в главные сословия» [Там же, с. 448]. П. П. Щербинин и вовсе настаивает на том, что «военное сословие» безусловно существовало, указывая, что «с точки зрения межсословной мобильности оно было открытым на входе, но закрытым на выходе» [ Киселев , Щербинин , 2015, с. 148]. При этом, по его мнению, «в оценках российской и зарубежной историографии военное сословие являлось особым социальным институтом, с присущими только ему групповыми интересами, настроениями, правовым статусом и социальным поведением» [Там же, с. 146]. В связи с этим мы считаем возможным проверить данную гипотезу как раз на примерах конфликтов, возникавших во время пребывания на службе в армейских рядах между представителями того самого «военного сословия», о котором идет речь выше, особенно в отношении настроений и социального поведения.
Для этой цели нами были использованы несколько судебно-следственных дел в отношении военнослужащих подразделений регулярной армии на территории Сибири в середине – второй половине XVIII в. В фонде Генерал-аудиторской экспедиции канцелярии Военной коллегии (ф. 8) Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) из выявленных нами более 370 дел, относившихся к личному составу армейских частей в Сибири на протяжении 1740–1790-х гг., около полутора десятков связаны как раз с такими случаями, когда обе стороны - и правонарушитель, и потерпевший - находились в момент происшествия на действительной службе. Среди них нами были выделены те, в которых были задействованы как рядовые, так и офицеры недворянского происхождения.
Конечно, может возникнуть сомнение: действительно ли в материалах судебноследственных дел адекватно отразились настроения и социальное поведение военнослужащих? Ведь совершение тех или иных правонарушений и преступлений относится к девиантному поведению, которое не может являться показателем тех или иных установок, ценностей, стереотипов поведения. Однако специфика военной службы подразумевает, что те лица, которые находятся в рядах вооруженных сил, осознают, что оружие, которым они располагают, не только может, но и должно применяться для лишения жизни других людей. Готовность к экстремальной ситуации военного конфликта оказывает соответствующее воздействие на психологию и поведение как отдельных субъектов, так и групп людей. Но поведенческие практики военнослужащих в условиях войны и в мирной жизни вряд ли могут иметь существенные отличия, так что фактор «экстремальности» в данном случае, по нашему мнению, не является препятствием. При этом не менее важно, как отмечает Е. С. Сенявская, принимать во внимание также «влияние социально-демографических параметров на психологию военнослужащих: возрастные характеристики, социальное происхождение, жизненный опыт, образовательный уро- вень» [Сенявская, 2016, с. 5]. Анализ же материалов судебного разбирательства, формулировок и мотивировки вынесенных приговоров как раз позволяет оценить, насколько полно и точно квалифицировали военные суды, состоявшие из тех же самых армейских офицеров, действия обвиняемых, исходя из общих ментальных установок, носителями которых судьи оказывались в той же степени, что и подсудимые.
Первое из интересующих нас дел относится к 1748 г., когда за убийство солдата Енисейского гарнизонного пехотного полка Мартынова предстал перед судом рядовой Новоучре-жденного драгунского полка Федор Устьянцов. Конфликт произошел, когда драгун Устьянцов, будучи пьян, начал драку с другим солдатом, сослуживцем Мартынова, а последний пытался разнять дерущихся, после чего Устьянцов стал избивать его палкой: «Убитой салдат не начинщик драки был, но увидя ево, что он другова салдата бил, разнимал, а он, оставя того, ево бил, а он с ним не дрался, что и свидетели точно показали» (РГВИА. Ф. 8. Оп. 3. Д. 890. Л. 13 об.–14). При этом в ходе судебного разбирательства выяснилось, что упомянутый драгун и ранее отличался проступками и нарушениями дисциплины: «Он прежде того за сказывание ложно слова и дела, и за обнажение шпаги и рубления брата своего, и за битье школника необычайно, при которой школе оной драгун был учителем, был штрафован» (Там же. Л. 13). Таким образом, Устьянцов предстает человеком, способным даже на убийство, коль скоро в свое время пытался наносить удары шпагой своему родному брату. Весьма удивительным выглядит то обстоятельство, что такого человека допустили учителем в школу для солдатских детей, к тому времени уже открытую в Тобольске. Впрочем, по свидетельству одного из мемуаристов, люди подобного типа встречались даже в школах для детей военнослужащих в столицах: в Артиллерийской школе в Москве конца 1730-х гг. учитель Алабушев «был человек пьяный и вздорный, по третьему смертоубийству сидел под арестом и взят обучать в школу: вот какой характер штык-юнкера Алабушева; а потому можно знать, сколь великий тогда был недостаток в ученых людях при артиллерии» ( Данилов , 1991, с. 310).
Разбирая дело, судьи руководствовались ст. 154 Артикула Воинского, предписывавшей за убийство наказывать смертной казнью путем отсечения головы. Таким и оказался вынесенный ими приговор, с которым согласился сибирский губернатор А. Сухарев. Однако в толковании к данной статье Артикула указывалось: «Також судье надлежит гораздо смотреть, каким оружием убитый убит или поврежден был. Тем ли бит, от чего мог легко умереть, яко топором, кольями, дубиною и протчим, или иным чем, яко малыми палочками и протчим, чем нелегко смертно убить возможно, в котором последнем случае обыкновенное наказание произвести невозможно, но на разсмотрение судейское предается» (Российское законодательство…, 1986, с. 356). Как раз этот «последний случай» и имел место, поскольку из материалов дела следовало, что «означенной драгун умершаго салдата бил палочкою черемоховою, которою подпирался, и была она длиною в один аршин пять вершков (около метра. – А. Д. ), а толщиною может войти в фузейное дуло (т.е. в ствол фузеи или мушкета – ружья, использовавшегося пехотинцами в русской армии XVIII в. – А. Д. ), а не таким инструментом, как выше изображено, и тол-ко ударил, как свидетели показали, раз с шесть; к тому ж тому мертвому телу и осмотру лекарского не было, подлинно ль он от тех побои умре или, может быть, ему смерть и от другова приключившагося случая приключилась» (РГВИА. Ф. 8. Оп. 3. Д. 890. Л. 13 об.).
В связи с этим начальник Генерал-аудиторской экспедиции Военной коллегии генерал-лейтенант В. Чистюнин не согласился с вынесенным в суде первой инстанции смертным приговором и предложил «учинить наказание, бить кнутом и определить в Сибире вечно на казен-ныя заводы в работу, и при том церковное покаяние учинить». Кроме того, он обратил внимание на необходимость соблюдения всех процедур во время следствия: «А в губернскую канцелярию подтвердить, ежели впредь смертное убивство учинитца, чтоб тотчас определить лекаря и велеть осмотреть, и при суде по силе 154 артикула толкования присягою утвердить, что подлинно ль убитой от побои умре или от других притчин, а ежели оныя впредь то упустят, то будут штрафованы» (Там же. Л. 14). В феврале 1749 г. руководство Военной коллегии приняло предложение генерал-лейтенанта Чистюнина и заменило Устьянцову смертную казнь наказа- нием кнутом и отправкой в каторжные работы, а также предписало Сибирской губернской канцелярии соблюдать процедуры медицинского освидетельствования при расследовании убийств.
Данный случай примечателен не столько тем, что преступник в конечном итоге избежал смерти, сколько тем, что он совершил убийство после целого ряда предшествовавших ему других дисциплинарных проступков. Складывается впечатление, что офицеры и полковое начальство Новоучрежденного драгунского полка либо не имели в своем распоряжении эффективных средств воздействия на правонарушителя, либо по каким-то причинам не использовали их в полной мере – краткая формулировка «был штрафован» не позволяет сделать сколько-нибудь надежный вывод. Сам же драгун Устьянцов, похоже, был не в состоянии сдерживать себя, особенно в пьяном виде, так что не видел необходимости контролировать собственные действия, в том числе с использованием оружия или других предметов. Это заставляет усомниться, можно ли считать его носителем таких установок и поведенческих стереотипов, которые должны характеризовать его принадлежность к «военному сословию» с точки зрения интересов, настроений, социального поведения. Конечно, случаи убийства одними военнослужащими других были в армейских подразделениях на территории Сибири XVIII в. относительной редкостью: среди почти 370 известных нам дел только в 34 из них подсудимые обвинялись именно в убийствах, причем жертвами становились в основном гражданские лица (казусов же, подобных рассмотренному выше, насчитывалось только шесть). Среди них, правда, выделяется еще одно дело, когда жертвой рядового солдата стал офицер.
В январе 1773 г., когда в с. Доронинском под Нерчинском находился прапорщик 2-го Се-ленгинского гарнизонного пехотного батальона Мякинин, занимаясь там приемом и отправкой в пограничную Акшинскую крепость крестьян-посельщиков, при нем «для отправления письменных дел» состоял рядовой Федор Кутейников. Солдатский сын, взятый на службу еще в 1754 г., когда ему только исполнилось 16 лет, он также совершил в предшествующие годы целый ряд правонарушений: «В первой за пьянство и в том за битие жонки, во второй за побег и снос с собою казенных вещей, в третей за играние в кости и драку сечен батожьем, а в четвертой раз за побег же и снос с собою казенных вещей гонен шпицрутен чрез тысячу человек десять раз» (РГВИА. Ф. 8. Оп. 4. Д. 955. Л. 22). А когда 20 января он пришел к своему командиру пьяным и начал ругать его, прапорщик Мякинин собрался взять его под караул и высечь батогами, для чего, выйдя из крестьянской избы во двор, хотел отдать соответствующий приказ другому солдату. После этого «он Кутейников, взяв свой лежащей тут в ызбе на столе перочинной ножик, с казаком Петровым вышел за ним Мякининым на крылцо с тем, что ежели оне станут ево брать под караул, то б тем ножом оборонитца и под караул не датца» (Там же). Солдат Кирилов, исполняя приказ офицера, попытался взять Кутейникова под стражу, хотя казак предупредил его о взятом из избы ноже. Это и стало сигналом к действию: «Тогда он Кутейников, вынувши оной ис кармана, во первых ткнул им тово Кирилова два раза, а как тот Кирилов от тех полученных им ран упал, тогда он пошол к прапорщику, и как прапорщик стал ему говорить, что он так делает, тогда он Кутейников тем ножом ткнул и ево, и как он упал, тогда он ево ещо ранил и всех дал ему дватцать деветь ран» (Там же. Л. 22 об.). Убийцу схватили муж хозяйки избы с другими крестьянами, сбежавшимися на ее крики, поскольку женщина видела все случившееся. Раненый солдат остался жив, а прапорщик Мякинин от полученных им 29 ран скончался через три дня.
Кутейникова сначала судили в Акшинской крепости под председательством ее коменданта секунд-майора С. Силкина. Однако проведенное там разбирательство не удовлетворило вышестоящие инстанции, поскольку «против формы военнаго суда многие оказались недополучки а сверх того и надлежащих к указам особливаго экстракта и выписок и протчих приложение не учинено» (Там же. Л. 9). Тогда иркутский губернатор А. Бриль летом 1774 г. передал поступившие к нему из крепости материалы на рассмотрение Иркутской обер-комендантской канцелярии, где был созван новый состав суда под председательством секунд-майора М. Воинова. Судьи добавили к «винам» Кутейникова еще четыре статьи Артикула Воинского: если поначалу ему инкриминировали только ст. 154 (убийство) и 163 (предусматривала отдельное наказание за убийство офицера), то теперь к ним присоединили еще ст. 21 и 22 («поношение» непри- стойными и бранными словами начальника и командира), 25 (о непочтении к командиру) и 43 (о пьянстве как отягчающем обстоятельстве в случае убийства) (Там же. Л. 22 об.; Российское законодательство…, 1986, с. 332–333, 336, 355, 358). При этом итоговый приговор все равно оставался одинаковым – смертная казнь путем колесования, как это трактовалось ст. 163 Артикула. Вторичное рассмотрение дела понадобилось из-за того, что первый состав суда в крепости не затребовал от батальонной канцелярии справку о предыдущих проступках подсудимого, а также не внес в подготовленную для вынесения приговора сентенцию сведения о словесных оскорблениях, предшествовавших убийству («о поношении и ругателстве салдатом Кутейниковым прапорщика Мякинина до резания ево и салдата Кирилова ножем речей совсем не введено» (РГВИА. Ф. 8. Оп. 4. Д. 955. Л. 12)).
Однако и в этом случае приведение в исполнение смертного приговора оказалось отложено, поскольку иркутский обер-комендант бригадир И. фон Линеман подал губернатору свое особое мнение, в котором высказал следующее предложение: хотя «тот убийца салдат Кутейников по прописанным в сентенции господ присудствующих правам за такое ево злодеяние как изверг и уже недостойной быть в числе живых, смертной казни и подлежит и ни к какому помилованию не достоин, но в разсуждении и к таковым преступникам простирающагося монар-шаго милосердия не соизволено ль будет и ево для многолетнаго ея императорскаго величества и их императорских высочеств здравия и благополучнаго ея императорскаго величества госу-дарствования от смертной казни избавить, а в страх другим лишить ево общества честных сал-дат и для тово, наказав ево кнутом и поставя указныя знаки, определить, куда соизволено будет, в вечную каторжную работу?» (Там же. Л. 23). Губернатор Бриль, согласившись с обер-комендантом, своим определением «выключил» Кутейникова из военной службы и отправил его, заковав в кандалы, в каторжные работы на Нерчинские заводы, объясняя в донесении, адресованном Военной коллегии, это свое решение заботой об экономии средств, «дабы он до последуемой от оной коллегии конфирмации содержан здесь под караулом без понесения службы денежного жалованья и протчаго напрасно из казны получать не мог» (Там же. Л. 1 об.). Военная коллегия запросила санкции Сената на исполнение смертного приговора, но ее, судя по всему, так и не последовало – на это намекает вынесенная чиновниками коллегии резолюция: «До получения на то указа, бив нещадно, вырезав ноздри и поставя знаки, оставить в Нерчинских заводах скованнаго в каторжной работе вечно» (Там же. Л. 25). Последнее слово «вечно» скорее дает понять, что смертной казни, по их мнению, никогда не последует.
Этот случай также свидетельствует о том, что люди определенного склада, попадая на военную службу, отнюдь не желали соблюдать предписываемые дисциплинарные нормы поведения и были способны применить оружие даже против офицеров и командиров, а не только против своих рядовых сослуживцев. Слова иркутского губернатора («в страх другим лишить общества честных солдат») скорее демонстрируют желание имперских властей видеть военнослужащих в рядах регулярной армии носителями одинаковых установок, настроений, ценностей, закрепляя их статус и поведение соответствующими юридически-правовыми нормами. Однако иногда невозможность добиться соответствия статусу «честных солдат» оборачивалась и такими трагическими событиями.
Со словесных оскорблений, наносимых друг другу в пьяном виде, начинались многие конфликты между военнослужащими, в том числе офицерами. Так, в 1788 г. разбиралось дело 32-летнего прапорщика Иркутского гарнизонного пехотного батальона Афанасия Сединкина, происходившего из «обер-офицерских детей» (обер-офицерскими детьми назывались сыновья гражданских чиновников недворянского происхождения, имевших чины «обер-офицерских» классов – от XIV до XI по Табели о рангах, дававшие не потомственное, а только личное дворянство, и сыновья офицеров недворянского происхождения, которые родились до получения их отцами первого офицерского чина, приносившего потомственное дворянство [Волков, 2003, с. 66]), «за пьянство и ругательство» батальонного командира секунд-майора Е. Савельева. Прапорщик Сединкин, как и рядовые в приведенных выше случаях, за предшествовавшие несколько лет также успел «отличиться» в целом ряде эпизодов пьяных дебошей, в том числе во время несения дежурства на карауле. Кроме того, несколько солдат под его командой, «сошед с караула в ночных часах, учинили воровство», а из тюремного острога во время его дежурства сбежали двое колодников (РГВИА. Ф. 8. Оп. 5. Д. 1303. Л. 31–31 об.). За этот последний случай его уже должны были на год разжаловать в рядовые, но сделано этого так и не было. А нынешнее дело было связано с инцидентами, произошедшими 31 августа в батальонной канцелярии, когда секунд-майор Савельев находился там «для подписывания дел». Прапорщик Сединкин явился в канцелярию, по словам майора, «в безчювственном пьянстве, не имея в одежде виду и знаку офицерскаго, бормотал с солдатами, приказывая что-то писать писарю», так что Савельев вынужден был приказать адъютанту Первушину отвести его в караульную солдатскую избу, чтобы тот протрезвился. В избе Сединкин так толкнул караульного ефрейтора Яковлева, что тот упал и расшибся до крови, после чего побежал к командиру с жалобой. Майору пришлось самому идти в караульную избу, чтобы утихомирить Сединкина, заперев его в чулане и при этом сказав ему: «Коли ты, нечувствителная и дебошная пьяница, тем недоволен, то поди ж в чулан» (Там же. Л. 31). Сидя в чулане, прапорщик продолжал буйствовать, угрожая как ефрейтора Яковлева, так и самого майора Савельева «заковать в железа». В жалобе обер-коменданту фон Линеману Савельев сообщал, что «не находит к удержанию его в пределах своей должности никакой надежды, и для того просит нынешней его поступок предать воинскому суду и поступить с ним по законам, дабы впредь никто другой в подобныя дерзости вступать не отваживался» (Там же. Л. 28 об.).
Представ перед судом под председательством капитана Г. Гагрина, Сединкин начал с того, что заявил отвод одному из асессоров (членов суда), капитану Я. Пешкову, который якобы состоит в кумовстве с батальонным командиром, а кроме того, в день происшествия заявил самому Сединкину, что «доправил бы сто рублей штрафу с того, кто его, свинью, жаловал (т.е. производил в нынешний офицерский чин. – А. Д. )» (Там же. Л. 29). (Перед началом каждого судебного разбирательства у подсудимых должны были в обязательном порядке спрашивать, не считают ли они нужным дать отвод кому-либо из судей вследствие личной неприязни или каких-то иных причин, см.: [ Дмитриев , 2018, с. 75].) Хотя Пешков и отрицал, что говорил подобное, но его все же заменили в составе суда другим офицером. В своих показаниях он старался представить свое поведение как не слишком предосудительное, объясняя, что «в батали-онную канцелярию он приходил, хотя бывши и в подгулке, но не слишком, для зделания имеющимся у него до некотораго числа долгам записки и отдачи оной за камисара сержанту Глазунову, но показанной баталионной командир Савельев, увидев, что он не обмундирован порядочно, приказал его посадить под стражу в караулную избу» (РГВИА. Ф. 8. Оп. 5. Д. 1303. Л. 29). Ефрейтора Яковлева он не бил, а только толкнул в шутку, без намерения ушибить, но тот, упав, сам расшибся до крови. Майор Савельев якобы пришел к нему в караульную избу в одном халате, избил своими руками и выбранил матерной бранью, после чего посадил в чулан. Сам Сединкин в ответ бранил его, поскольку командир нанес ему личное оскорбление: «Сверх того, когда он еще не вышел из баталионной канцелярии, то баталионной командир называл ево сводником жены ево Сединкина, и будто он Сединкин от того и пьет… что, поставя за такой себе удар, котораго снести не можно, а при том дасадуя за оказанную посажением в чулан строгость, выбранил его в караульной избе матерною бранью» (Там же. Л. 29 об.). Однако от обвинений в угрозах майору Савельеву прапорщик категорически отнекивался.
Вызванные в качестве свидетелей остальные участники этой истории слов Сединкина не подтвердили. Из их показаний следовало, что майор Савельев вовсе не называл подсудимого сводником жены и не ругал его, капитан Пешков также не говорил ничего предосудительного к чести прапорщика. Зато сам подсудимый, по их словам, «будучи безчувственно пьян, как в ба-талионной канцелярии, так и при отсылке его под стражу производил всякие дебоширства и, оказывая все нетерпимые по службе грубости, не шол под караул», потом из караульной избы, «будучи он доволно пьяной, не хотя в оной сидеть, рвался в баталионную канцелярию», и наконец, «сидя уже в чулане, говорил сам себе, что как баталионнаго командира, так и Яковлева предаст под воинской суд и закует в железа» (Там же. Л. 30-30 об.). Поэтому суд счел показания прапорщика ложными, что добавило ему отягчающих обстоятельств. В сентенции, в частности, указывалось, что Сединкин, «винным себя хотя и не признает, но как представлен- ные от него во свидетелство чины под присягою совершенно оправдали баталионнаго командира Савельева и капитана Пешкова то и нет нужды домагатся о собственном его показании» (Там же. Л. 32). В итоге к подсудимому были применены ст. 22, 24, 25 и 43 Артикула Воинского и вынесен смертный приговор – повесить.
Правда, приговор этот с юридической точки зрения выглядел не совсем обоснованным. Из перечисленных четырех статей Артикула только одна ст. 24 предписывала смертную казнь (хотя и не через повешение, а «отсечением главы»), но в ней речь шла о физическом воздействии в отношении фельдмаршала или генерала, а не командира штаб-офицерского ранга или обычного военнослужащего (Российское законодательство…, 1986, с. 332). Судьи сочли нужным дополнительно объяснить смертный приговор следующим образом: «Причитая к тому все прежния его гнусныя поступки, как-то пьянства на карауле и разные другие буйства, противу должности чинимыя, по которым доныне не оказана над ним законная строгость, но поступае-мо было с крайним уважением, чего однако ж он не почувствовал, а из сего следует, что и на дальнейшее время не можно ожидать от него лутчей жизни» (РГВИА. Ф. 8. Оп. 5. Д. 1303. Л. 32–32 об.). Обер-коменданту фон Линеману пришлось «поправить» батальонных офицеров. Соглашаясь, что «внедрившаяся в него к пьянству слабость, повергая ево ко всякому гнусному поступку, не может совратить его на познание самаго себя и чести законами ограниченной», он все-таки предложил его «вместо приговоренной судом смертной казни, лиша всех чинов с достоинством дворянским и отобрав патент, написать вечно салдатом» (Там же. Л. 1).
С этим предложением согласился иркутский губернатор генерал-майор М. Арсеньев и в конце 1788 г. отправил его на «конфирмацию» (т.е. на утверждение) в Военную коллегию. В коллегии даже предпочли изъять из приговора слово «вечно», в январе 1789 г. сформулировав разжалование Сединкина так: «За усмотрение ныне в нем вместо чаямаго от него поправления пьянство, неблагопристойнныя и предосудительнныя чести афицерской поступки и за брань начальника своего, как человека безпокойнаго и к пьянству пристрастнаго, оставить в звании рядоваго со справлением настоящей по службе наряду с прочими должности, дотоле пока он от гнуснаго порока совершеннаго не окажет воздержания, и о возвращении ему преж-наго чина не иначе представить в коллегию, как по усмотрении не толко действительннаго его в трезвости исправления, но усердной при том службы и добропорядочнаго во всем протчем поведения с надлежащим о том от его начальников засвидетельствованием» (Там же. Л. 33– 33 об.). Как видим, высшая инстанция посчитала возможным сохранить Сединкину шанс на возвращение обер-офицерского чина (и вместе с ним дворянского достоинства), несмотря на все его пороки.
В данном случае мы опять-таки сталкиваемся с тем, что командиры армейских частей не имели достаточных полномочий для адекватного воздействия на собственных подчиненных, даже если поведение последних сопровождалось прямо-таки вызывающими нарушениями дисциплины и служебного порядка. Иногда подобные эксцессы и вовсе завершались убийствами, как это произошло, например, в 1765 г. в Селенгинском полевом пехотном полку, когда один офицер в ссоре заколол ножом другого [ Дмитриев , 2018, с. 81]. Здесь до этого не дошло, но совершенно очевидно, что прапорщик Сединкин, полтора десятка лет пребывая в рядах регулярной армии, вообще не считал себя обязанным соблюдать дисциплинарные нормы, хотя родился и вырос в семье офицера, так что с самых ранних лет должен был бы стать носителем тех настроений и стереотипов поведения, которые отличали представителей «военного сословия». Асессоры военного суда и вышестоящее командование подходили к оценке его поступков действительно с точки зрения того идеала, который имперская государственная власть стремилась внедрить в собственной армии, но надлежащего эффекта в отношении данного конкретного субъекта это не произвело.
Таким образом, изученные материалы судебно-следственных дел вряд ли позволяют с уверенностью утверждать, что военнослужащие регулярной армии России XVIII в., не принадлежавшие по происхождению к дворянству, составляли «военное сословие» как особую группу или даже институт, будучи носителями присущих только им интересов, настроений, социального поведения. Конфликты в армейских частях, дислоцированных на территории Сибири, имевшие ме- сто в середине – второй половине XVIII столетия, скорее, наводят на мысль, что в вооруженных силах империи неизбежно возникали те же конфликты и антагонизмы, что и в среде гражданского населения. При этом нами были оставлены «за кадром» множество других разновидностей проступков и правонарушений: действия офицеров в отношении собственных денщиков и других служителей, использование подчиненных в своих интересах для получения тех или иных материальных выгод, в том числе взяточничество, и пр. [Там же, с. 79–81]. Не претендуя на окончательное решение поставленных вопросов, мы хотели бы привлечь внимание исследователей именно к судебно-следственным делам как одному из массовых источников по истории русской армии и возможностям их дальнейшего использования для изучения проблем, связанных как с определением места военнослужащих в социальной системе, так и со спецификой регулярной армии в качестве одного из важнейших институтов Российской империи XVIII в.
Список литературы Конфликты между военнослужащими подразделений русской регулярной армии в Сибири XVIII века (по материалам судебно-следственных дел)
- Волков С.В. Русский офицерский корпус. М.: Центрполиграф, 2003. 414 с. EDN: UVAPDE
- Военная конфликтология / под общ. ред. С.В. Смульского. М.: Изд-во РАГС, 2010. 208 с.
- Дмитриев А.В. Военное судопроизводство в армейских частях на территории Сибири в XVIII в.: официальный механизм и реальная практика [Электронный ресурс] // Исторический курьер. 2018. № 1. С. 74-83. URL: http://istkurier.ru/data/2018/ISTKURIER-2018-1-06.pdf (дата обращения: 25.08.2022). EDN: VKWBVZ
- Карпущенко С.В. Армейские будни: казарма, каша, казна, кафтан // Быт русской армии XVIII - начала XX в. М.: Воениздат, 1999. С. 13-150.
- Киселев А.С., Щербинин П.П. Историко-правовые аспекты формирования военного сословия в XVIII в. // Вестник Тамбов. ун-та. Гуманитарные науки. 2015. Вып. 8 (148). С. 145-150. EDN: VLDREX
- Леонов О.Г., Ульянов И.Э. Русская пехота, 1698-1801: боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение. М.: АСТ, 1995. 296 с.
- Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1. 896 с. EDN: UEBDTO
- Охлябинин С.Д. Повседневная жизнь русской армии во времена суворовских войн. М.: Молодая гвардия, 2004. 345 с.
- Сенявская Е.С. Военная антропология: опыт становления и развития новой научной отрасли [Электронный ресурс] // Вестник Минин. ун-та. 2016. № 1-2 (14). С. 1-14. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/168/169 (дата обращения: 22.08.2022).
- Сенявская Е.С. Военно-историческая антропология и психология (на материале российских войн XX в.). Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2012. 223 с. EDN: QYEWNZ