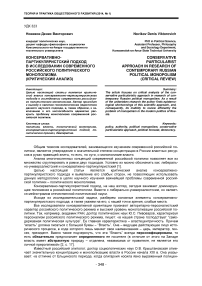Консервативно-партикуляристский подход в исследовании современного российского политического монополизма (критический анализ)
Автор: Новиков Денис Викторович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящей статьи является критический анализ консервативно-партикуляристского подхода в исследовании современного российского политического монополизма. Автор приходит к выводу о наличии гносеологических недостатков данного научного подхода, и, таким образом, к заключению о его неспособности адекватно раскрыть проблему монополизма современной российской политики.
Политика, власть, политический монополизм, консервативно-партикуляристский подход, политический прогноз, демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/14935808
IDR: 14935808 | УДК: 323
Текст научной статьи Консервативно-партикуляристский подход в исследовании современного российского политического монополизма (критический анализ)
Общим тезисом исследователей, занимающихся изучением современной российской политики, является утверждение о значительной степени концентрации в России властных ресурсов в руках правящей элиты, то есть, по сути, о монополизме власти.
Анализ многочисленных концепций современной российской политики позволяет все их множество сгруппировать в рамки двух подходов. Условно их можно обозначить как: либерально-универсалистский и консервативно-партикуляристский [1].
Целью настоящей статьи является критический анализ консервативно-партикуляристского подхода и выявление его слабых сторон, не позволяющих использовать данную методологию в целях научного изучения важнейшей проблемы современной российской политики – политического монополизма.
Консервативно-партикуляристский подход, на наш взгляд, сегодня занимает доминирующее положение в российской политологии. Вместе с либерально-универсалистским, он является мейнстримом отечественной политической науки.
Исходя из исследовательской задачи, разберем основные элементы консервативно-партикуляристского подхода, а также укажем на его, с нашей точки зрения, слабые места.
Все исследователи консервативной ориентации признают авторитарно-персоналистский характер российского политического режима и высокий уровень монополизации российской политики. Так, например, академик РАН, доктор политических наук Ю.С. Пивоваров, характеризуя персонализм российского политического режима, пишет: «в нашей стране господствует “самодержавная политическая культура”. Ее главная характеристика – властецентричность. Причем “власть” должна писаться с большой буквы – “Власть”. Она – ведущее действующее лицо исторического процесса, в ходе которого лишь меняет свои наименования – царь, император, генсек, президент. Важно также подчеркнуть, что эта “Власть” всегда персонифицирована , то есть обязательно предполагает определенного ее носителя (в отличие от этого на Западе власть имеет абстрактную природу – отделена, независима от правителя, не является его личной прерогативой» [2, с. 17].
Известный российский элитолог, доктор социологических наук О.В. Крыштановская отмечает значительную концентрацию и монополизацию власти в России начала XXI в. Она указывает: «в отличие от Ельцинского периода, когда олигархия носила явно выраженный полицен- трический характер, новая власть проявляла склонность к моноцентризму. Предприняв усилия для возврата полномочий в центр и потеснив региональную элиту с политического поля, Кремль достаточно методично начал работу по восстановлению не только “вертикали власти” в регионах, но всей государственной пирамиды. Поиски независимых центов власти велись по всем направлениям, и повсюду цель была одна – провести переговоры, добиться консенсуса, но главное – установить контроль, подчинить, а если не удастся – убрать с политического поля. Ельцинские центры власти – Государственная Дума, Совет Федерации, региональные элиты, правительство, СМИ – один за другим утрачивали свою независимость от государства либо теряли влияние. Политическая система “выстраивалась”, становясь все более упорядоченной, моноцентричной, бюрократической. Источники политической инициативы вырождались, сводясь к предложениям Кремля или правительства» [3, с. 255].
Несмотря на фактически схожую характеристику «исходного состояния» современной российской политики (авторитарность, персонализм, монополизм) консерваторы совершенно иначе, нежели либералы интерпретируют его каузальные основания. В отличие от либералов представители консервативно-партикуляристского подхода рассматривают указанные характеристики (авторитарность, персонализм, монополизм) не в качестве девиации, а в качестве нормального и (или) оптимального политического состояния, обусловленного российским цивилизационным «кодом».
Так, например, О.В. Крыштановская выделяет два типа обществ: «экономические» и «политические». Если страны запада относятся к «экономическому» типу, то Россия на протяжении всей своей истории представляла собой пример общества «политического». По мнению исследователя, «политический» характер российского социума проявлялся в том, что здесь «никогда экономические акторы не представляли собой серьезной социальной силы. Главным видом капитала был капитал политический, который не только приносил доход, но и был гарантом богатства. Размер дохода был связан с местом в политической иерархии, образовавшей политическое пространство, на котором шли активные процессы обмена и торга. Экономическое развитие не только не было самодовлеющим и определяющим политический процесс, но, напротив, детерминировалось политикой. Власть имущие, а не собственники экономического капитала, определяли приоритеты экономического развития» [4].
Известный российский социолог О.И. Шкаратан, опираясь на цивилизационный подход, указывает, что «современное российское общество относится к особой цивилизации (евразийской), которая существенно отличается от европейской (атлантической) по институциональной структуре и ценностно-нормативной системе» [5, с. 85]. На протяжении своей многовековой истории Россия являлась этакратическим (сейчас – неоэтакратическим) обществом, ориентированным «на максимизацию власти, то есть на рост военной и идеологической способности политического аппарата навязать свои цели большему количеству подданных на более глубоких уровнях их сознания» [6].
По мнению доктора политических наук О.В. Гаман-Голутвиной, Россия в отличие от запада на протяжении всей своей истории являлась (и является) бюрократически управляемым государством. Благодаря этому в ней «меркантильный класс (предприниматели – Н.Д.) никогда не имел решающего влияния на политику» [7, с. 110].
Причиной политического своеобразия России, по мнению исследователя, являлась мобилизационная модель социально-экономического развития, суть которой заключается «в преобладании политических (а не экономических) факторов развития и приоритетной роли государства во взаимоотношениях с гражданским обществом» [8].
Сходную точку зрения высказывает и крупный представитель отечественной экономической социологии С.Г. Кирдина. При этом исследователь не просто указывает на отличие российского политического опыта от стран Запада, но и исследует причины данного отличия, разрабатывая целостную социологическую концепцию.
По мнению С.Г. Кирдиной, детерминантой, определяющей экономический, политический, идеологический порядок конкретного общества является тип его (общества) институциональной матрицы, которая понимается как «устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер» [6]. Всего в истории человечества существовало (и существует) два типа институциональных матриц: «восточная» или Х-матрица и «западная» или Y-матрица. Для Х-матрицы характерны: редистри-бутивная экономика, коммунитарная идеология, унитарное политическое устройство. В свою очередь Y-матрица характеризуется рыночной экономикой, субсидиарной идеологией, федеративной политикой. Складываясь на основе материально-технологической среды, институциональная матрица того или иного конкретного общества, сохраняет свой тип на протяжении всей его (об- щества) истории. А «ее устойчивость определяет каналы, русло, “исторический коридор” эволюции конкретных обществ, задает общее направление траектории социальных изменений» [9].
В отличие от стран Запада, характеризуемых Y-матрицей, Россия всегда «принадлежала» к Х-матрице. С.Г. Кирдина в этой связи пишет: «история России представляет собой неуклонное движение в направлении все большего раскрытия потенциала свойственных ей институтов, отвечающих природе Х-матрицы» [10].
Экономические, политические процессы, происходящие в России в течение последних 20 лет, по мнению исследователя, разбиваются на два этапа. Содержанием первого этапа была «тотальная замена институциональной системы, основанной на государственной собственности, системой экономических институтов, базирующихся на частной собственности, или приватизация в широком смысле слова» [11]. То есть, на протяжении последнего десятилетия ХХ в. в России предпринималась попытка «интродукции» элементов Y-матрицы.
В политической сфере, в частности, «интродукция» проявилась в постановке и решении задачи построения элементов западной демократии, то есть «замены унитарного советского государства на федерацию с развитием соответствующих ее природе демократических институтов – выборов, развития начал самоуправления, модернизации судебной системы» [12].
Однако поскольку «интродукция» политических (как и экономических) элементов Y-матрицы осуществлялась «без учета специфики российского государства и материальнотехнологических условий его существования» [13], постольку «по мере разворачивания реформ стали проявляться объективные ограничения заимствуемых институциональных форм» [14]. Искусственное внедрение элементов западной демократии, по мнению С.Г. Кирдиной, противоречило «матричной» природе России и в связи с этим не позволило «решить реальные проблемы в структуре власти» [15].
Указанное противоречие естественным путем разрешается (процесс не завершен) в ходе второго этапа новейшей российской истории. Его содержанием как раз и является усиление и, в конечном счете, доминирование политических институтов, органически свойственных природе российской Х-матрицы.
Таким образом, централизация и концентрация власти в России начала XXI в. понимаются С.Г. Кирдиной как восстановление естественного движения по траектории X-матрицы.
Близкие по смыслу суждения относительно уникальности российской политической традиции высказывает и Ю.С. Пивоваров. В своей работе с характерным названием «Русская политика в ее историческом и культурном отношениях» [16] он указывает на уникальность российской политической традиции, ее кардинальное отличие от традиции западной. «На Западе, – пишет Ю.С. Пивоваров, – практически все публично-политическое и властно-бюрократическое вписано в конституции <…> публично-политическое и властно-бюрократическое не выходят за пределы конституционного поля, а сами эти пределы <…> – преодолевать нельзя. За границами конституционного поля ни публичной политике, ни государству <…> делать нечего, их туда не пускают». В России ситуация иная. «Русской Власти до всего дело. Даже сегодня, во многом изменившись, во многом утеряв моносубъектность и всеохватность, она не оставляет своих былых привычек, верна главным своим традициям, а ее нынешний персонификатор <…> твердо заявляет: “Я здесь сегодня <…> отвечаю за все”» [17].
Соглашаясь с американским историком Р. Пайпсом, Ю.С. Пивоваров отмечает отличительную особенность российской власти от власти на Западе – ее вотчинный характер, где правитель одновременно является и политическим лидером и верховным собственником [18, с. 670 – 671].
Еще один представитель консервативно-партикуляристского подхода В.В. Иванов, также указывая на уникальность российской политики, безапелляционно заявляет: «в России, или если подойти шире, в государстве с русской политической культурой <…> обязательно должен быть (выделено – Н.Д.) царь или “царь”, причем сильный, демонстративно пользующийся своей властью» [19, с. 5].
В связи с констатацией органичности авторитарно-персоналистской политической традиции, ее естественной встроенности в контекст российской цивилизации, консерваторы рассматривают все попытки либерально-демократического транзита в России в качестве контрпродуктивной практики. Будущее российской политики – это вовсе не формирование западных либерально-демократических образцов, а воспроизводство авторитарно-персоналистского опыта, имманентно предполагающего отсутствие политической конкуренции и монополизацию власти.
Так, например, Ю.С. Пивоваров, объясняя «замкнутую» сущность демократического транзита в постсоветской России пишет следующее: «к началу второго срока президентства В.В. Путина в основном завершилась эпоха “транзита”. Выйдя из пункта “А”, Россия пришла к пункту <…> “А” <…> транзит предполагает попадание в пункт “Б”. Однако русский транзит обладает особыми свойствами. Его траектория всегда замысловата, так сказать, в процессуаль- ном отношении, но “провиденциальна” в содержательном. Я бы сформулировал это так: отречемся от старого мира, разрушим его до основания, и вдруг обнаружим, что все это на самом деле было спасением мира старого – не по форме, по существу» [20].
На пагубность заимствования западных политических образцов указывает Е.Н. Мощел-ков. По его мнению, «стратегическая линия российской власти в сфере государственного строительства представляет собой смешение элементов двух нестыкующихся друг с другом политических традиций – западной и российской» [21]. Необходимо избавиться от подобного противоречия, после чего «развитие российской государственности ляжет в свое, уже столетиями предначертанное ей русло» [22].
Таковы основные теоретические положения консервативно-партикуляристского подхода.
Указанная научная традиция (консервативно-партикуляристский подход), на наш взгляд, обладает определенными недостатками, снижающими его познавательный потенциал. Разберем их.
Постулируемый консерваторами цивилизационный «код» («колея», «русло», «генотип» и т.д.) российской политики, в основе которой лежит авторитарно-персоналистская традиция и монополизм власти представляет собой, в сущности, своеобразную метафизическую категорию, обладающую исторической неизменностью и непротиворечивостью. Сама российская политическая традиция («Русская власть», «Русская система», «Х-матрица» и т.д.) представляется авторами консервативной направленности уже в качестве сложившейся, «ставшей», «зрелой» политической практики. При этом, хотя некоторые авторы и указывают на причины возникновения феномена «Русской власти» [23], большинство представителей консервативного направления игнорируют вопрос каузальности. Для них российская политическая традиция – это объективная данность естественным образом порожденная всем ходом отечественного исторического процесса.
Подобная логика исследования российской политики приводит консерваторов либо к закономерному прогнозному выводу о сохранении в неизменном виде авторитарноперсоналистского режима, либо к логически произвольному заключению о демократизации российской системы.
В связи с последним весьма интересной и показательной представляется прогнозная концепция доктора политических наук Е.Г. Пономаревой, изложенная в докладе «Проект будущего для России: пространство приемлемого» [24]. Прогнозируя будущее России, автор излагает 5 возможных сценариев («стагнация» (1), «полураспад или балканский сценарий» (2), «цикл распада» (3), «русский Черный лебедь» (4), «глобальная катастрофа» (5)). Из указанных сценариев, по мнению автора, наиболее приемлемыми для России являются сценарии (1) и (4). При этом если сценарий (1) просто воспроизводит в сущностно неизменном виде нынешний экономический и социально-политический порядок, то сценарий (4) вообще основывается на гипотетическом паранаучном допущении исследователя. Симптоматично, что сама Е.Г. Пономарева называет сценарий «русский Черный лебедь» словом «чудо».
Точка зрения консерваторов об исторической неизменности российской политики является бесспорным недостатком теории, поскольку явно противоречит сущностным изменениям, неоднократно имевшим место в российской истории. С позиции консервативного подхода данные изменения (например, две революции 1917 г. и революционные изменения нач. 90-х гг. ХХ в.) являются необъяснимыми.
Более того, указанная точка зрения, на наш взгляд, вообще отрицает динамику российской истории как таковую, сводя ее (историю) к перманентному воспроизводству авторитарноперсоналистского состояния.
Справедливости ради следует отметить, что некоторые авторы [25], проявляя научную принципиальность, осознают указанный недостаток консервативного подхода. Так, например, Ю.С. Пивоваров подвергает критике концепцию российского историка В.П. Булдакова, утверждающую неизменность содержания российского менталитета [26]. По его мнению, стремление В.П. Булдакова (а также других исследователей) «увековечить» черты российского менталитета не позволяет объяснить историческую динамику России.
Однако, несмотря на самокритику, исследователи консервативного направления лишены возможности преодолеть недостатки собственной теории, будучи не в состоянии выйти за ее (консервативной теории) пределы. Так, тот же самый Ю.С. Пивоваров на протяжении всей своей работы «Русская политика в ее историческом и культурном отношениях», утверждающий идею неизменности российской политической традиции, в «Заключении» фактически опровергает свои основные тезисы, возражая «против провиденциалистского, телеологического, орга-ницистского подходов к истории» [27].
Таким образом, консервативно-партикуляристский подход обладает явными недостатками, которые не позволяют использовать его познавательный потенциал в целях изучения проблемы монополизма современной российской политики.
Ссылки:
-
1. Новиков Д.В. Монополизм в современной российской политике (каузальный анализ) // Вопросы управления. 2012. № 2 (19). С. 16–21.
-
2. Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М., 2006.
-
3. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005.
-
4. Там же. С. 40–41.
-
5. Шкаратан О.И. Посткоммунистические общества Европы и Азии // Свободная мысль. 2010. № 1. С. 79–92.
-
6. Там же. С. 86.
-
7. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России // Российская политическая наука: в 5-ти т. / под общ. ред. А.И. Соловьева. М., 2008. Т. 5. 1995–2006.
-
8. Там же. С. 111.
-
9. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Гл. 2. «Понятие институциональной матрицы». URL: (дата обращения: 24.12.2013).
-
10. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Гл. 10. «Теория институциональных матриц о прошлом, настоящем и будущем России. URL: (дата обращения: 24.12.2013).
-
11. Там же.
-
12. Там же.
-
13. Там же.
-
14. Там же.
-
15. Там же.
-
16. Пивоваров Ю.С. Указ. соч.
-
17. Там же. С. 83–84.
-
18. Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность / Российская политическая наука: в 5-ти т. / под общ. ред. А.И. Соловьева. М., 2008. Т. 5. 1995–2006.
-
19. Иванов В.В. Партия Путина. История «Единой России». М., 2008.
-
20. Пивоваров Ю.С. Русская политика … С. 111.
-
21. Мощелков А.Н. Мифологизаци современной государственной стратегии России как проблема политической науки // Российская политическая наука: в 5-ти т. / под общ. ред. А.И. Соловьева. М., 2008. Т. 4. 1985–1995. С. 431–437.
-
22. Там же.
-
23. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы … Гл. 10.
-
24. Пономарева Е.Г. Проект будущего для России: пространство приемлемого // Проект будущего для России. Пространство вероятного и приемлемого. Материалы научного семинара. Вып. 7. М., 2011.
-
25. Пивоваров Ю.С. Русская политика … С. 157–158.
-
26. Булдаков В.П. Системные кризисы в России: сравнительное исследование массовой психологии 1904–1921 и 1985–2002 гг. // Acta Slavica Japonica. Т. 22. С. 95–119.
-
27. Пивоваров Ю.С. Русская политика … С. 164.