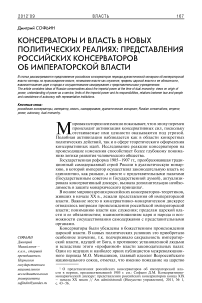Консерваторы и власть в новых политических реалиях: представления российских консерваторов об императорской власти
Автор: Софьин Дмитрий Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются представления российских консерваторов периода дуалистической монархии об императорской власти: взгляды на происхождение власти, понимание власти как служения, пределы царской власти и ее обязанности, взаимоотношения царя и народа и сосуществование самодержавия с представительными учреждениями.
Российские консерваторы, император, власть, самодержавие, дуалистическая монархия
Короткий адрес: https://sciup.org/170166566
IDR: 170166566
Текст научной статьи Консерваторы и власть в новых политических реалиях: представления российских консерваторов об императорской власти
М ировая история неизменно показывает, что в эпоху перемен происходит активизация консервативных сил, поскольку отстаиваемые ими ценности оказываются под угрозой.
Подобная активизация наблюдается как в области конкретных политических действий, так и в сфере теоретического оформления консервативных идей. Исследование реакции консерваторов на происходящие изменения способствует более глубокому пониманию логики развития человеческого общества.
Государственная реформа 1905–1907 гг., преобразовавшая традиционный самодержавный строй России в дуалистическую монархию, в которой император осуществлял законодательную власть не единолично, как раньше, а вместе с представительными палатами (Государственным советом и Государственной думой), актуализировала консервативный дискурс, вызвала дополнительную необходимость в защите монархического принципа1.
В основе мировоззрения российских консерваторов-теоретиков, живших в начале XX в., лежали представления об императорской власти. Важное место в консервативно-монархическом дискурсе отводилось вопросам происхождения российской императорской власти; пониманию власти как служения; пределам царской власти и ее обязанностям; взаимоотношениям царя и народа и возможности сосуществования самодержавия с представительными органами.
Консерваторы были убеждены в божественном происхождении царской власти. В новых политических условиях это приобретало особенное значение, т.к. подчеркивало сакральность императорской власти, идущей от Бога, в противовес установленной людьми и вследствие этого «профанной» власти законодательных палат. Один из ведущих и наиболее ярких публицистов межреволюционного периода М.О. Меньшиков, главный идеолог Всероссийского национального союза, отмечал, что именно помазание на царство дает особую помощь свыше1. Правовед И.Т Тарасов указывал, что самодержавие «Божественного происхождения» и «оно осуществляется по воле Божией»2.
Тезис о божественном происхождении царской власти и о монархе как помазан -нике Божьем являлся общим для всех рус ских консерваторов рубежа XIX—XX вв. как до государственной реформы 19051907 гг., так и после нее. Известный публицист и общественный деятель К.Н. Пасхалов, не отвергая данный тезис, предпочитал, однако, говорить не о Боге, а о народе как источнике царской власти. Правый мыслитель критиковал идею огра ничения законодательной власти монарха. По мнению публициста, самодержавие не есть личное приобретение императора Николая II или его предков, а поручено народной волей основателю династии Михаилу Федоровичу Романову3. В такой ситуации «Самодержец может отка-заться от своих прав только по желанию народа»4.
Таким образом, К.Н. Пасхалов, провоз глашавший себя консерватором, на самом деле в значительной степени десакрализо вывал монархическую власть, предлагая первоначалом считать народное избрание, т.е. фактически говорил не о царском, а о народном суверенитете. В рамках подоб ных рассуждений крестоцеловальная запись Земского собора 1613 г. является не чем иным, как общественным догово ром, в котором раз и навсегда прописана обязанность государя быть самодержав ным. Но источником всей полноты власти русского царя выступает народ. Понимая противоречие подобных представлений с коренными основами идеи самодержавия, осознавая всю опасность перевода монар-хии из сакральной сферы в профанную, резкую отповедь таким взглядам давал редактор «Московских ведомостей» и основатель Русской монархической партии В.А. Грингмут, отстаивая принцип именно
«богоизбранности» царской власти, а ни в коем случае не «народоизбранности»5.
В вопросе о происхождении царской власти К.Н. Пасхалов стал исключением в ряду консерваторов. В некоторой степени его поддержал лишь правый публицист и член Государственной думы Г.А. Шечков, проявив двойственность своей позиции. С одной стороны, он ясно и определенно указывал на божественное происхожде ние царской власти: «Итак, самодержав-ное правление — это “священный долг”, “великое служение” и “бремя”, самим Богом возлагаемое»6. Но, с другой сто -роны, он же утверждал, что «власть... Царя Михаила Романова есть власть все -народным Великим Земским Собором, или (выражаясь языком коренных конституционалистов - англичан) “конве -нантерами” 1613 года установленная»7.
Впрочем, знаменитый философ и публицист Л.А. Тихомиров, высказываясь по поводу Земского собора 1613 г., опреде лял его существенное отличие от «консти туант»: «...грамота об избрании Михаила Федоровича составлена представителями народа так, чтобы в ней было возможно меньше элемента избирательного, завися щего от народных желаний, и как можно больше преемственного, связующего Царя и народ со всей прошлой историей»8.
Можно предположить, что обращение к формулировкам, характерным для тео-рии «общественного договора» и идеи «народного суверенитета», было для К.Н. Пасхалова и Г.А. Шечкова созна-тельной «игрой на чужом поле», тактиче ским средством, с помощью которого они обращали либеральную риторику против самих либералов. Используя подобные теоретические положения, консерватив ные публицисты и с их помощью также доказывали законность и необходимость самодержавия для России.
Консерваторы неизменно указы вали на то, что монархическая вл асть есть не благо для ее носителя, а тяжелое бремя. Так, В.А. Грингмут называл цар-скую власть «христианской крестной ношей»1, а И.Т Тарасов утверждал, что «Самодержавие есть служение, и служе-ние великое...»2.
Среди консерваторов возникали дис -куссии по поводу пределов император -ской власти и точного понимания ее гра-ниц. В.А. Грингмут неизменно говорил о неограниченности царской власти3. Полемизируя с ним, известный консер-вативный деятель, издатель «Гражданина» князь В.П. Мещерский указывал на то, что «для христианина не может быть неограни -ченной власти на земле, ибо неограничен в своей власти только Бог един, и все на земле ограничено законами мирозданья и естества. А затем для русского православ ного человека искони царь самодержец потому не может быть неограниченным, что он ограничен своей ответственностью перед Богом и перед своей совестью, и всего, что вера в Бога и его совесть ему не дозволяют, Самодержец не может делать»4. По этому же поводу правовед В.Д. Катков писал, что «самая полная, самая неогра ниченная (юридически) Верховная Власть на деле ограничена (нравственно и со сто -роны религии) верованиями, интересами и обычаями народа... Государь ограничен рамками Православной Церкви и ответ -ственностью перед Богом». Он же подчер-кивал «невозможность для самого Государя собственною волею изменить харак-тер власти, освященной Православной Церковью»5. И.Т. Тарасов указывал, что самодержавие «должно служить пользе народа и славе Божией» и что оно «ответ ственно пред судом Божиим»6.
Одним из важнейших становился вопрос о том, ограничивают ли Основные законы 1906 г. императорскую власть. В связи с этим большое значение приобретали не только религиозные и философские обоснования монархического правления, но и юриди ческие. После появления новой редакции Основных законов между либералами и консерваторами разгорелась дискуссия.
Либералы утверждали, что Основные законы — это конституция, и монарх теперь ею ограничен. Консерваторы же доказывали, что самодержавная власть осталась прежней7, а император не может быть ограничен Основными законами, которые сам издал. Обстоятельно на этом вопросе останавливались в своих работах консерваторы юристы профес сор Императорского Новороссийского университета П.Е. Казанский и директор Московского архива Министерства юсти ции Д.Я. Самоквасов8. Неоднократно об этом же писали публицисты, говорили с думской трибуны правые депутаты. Один из них, И.И. Балаклеев, отмечал, что «Верховная Власть в России принад-лежит Монарху, а не народному предста вительству, и не принадлежит им обоим вместе»9, «народное представительство в русском государстве является учрежде нием, Верховной Самодержавной Властью установленным, учреждением, снабжен ным этой Верховной Властью полномо чиями, и только в силу этих полномочий и действующим»10, и делал вывод, что «кон-ституции у нас нет и быть не может»11.
Активно обсуждались и вопросы о вза имоотношениях царя и народа и о совме стимости самодержавия с представи тельными органами. В.Д. Катков писал: «Ничьи интересы не связаны так нераз рывно с интересами всего народа, никто так недоступен подкупам, никто не имеет больше средств знать то, что нужно для управления государством, как Государь»12. Об отношениях монарха с народом в тра
-
7 Лукьянов М.Н. Российский консерватизм и реформа, 1907—1914. — Пермь : Перм. ун-т, 2001, с. 33; Репников А.В. Консервативные концеп-ции переустройства России. — М. : Academia, 2007, с. 183—184; Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907—1914 гг. — Л. : Наука, 1990, с. 12, 16.
-
8 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. — М. : Фонд «Имперское возрождение», 2007, с. 337—339 и др.; Самоквасов Д. Верховная Самодержавная Власть и Основные Законы Российской Империи. — М. : Университетская типография, 1907, с 10—19.
-
9 Балаклеев И.И. Есть ли в России конституция // Речи члена Государственной Думы третьего созыва, 1907—1912 гг — Харьков : Типография «Мирный труд», 1912, с. 107.
-
10 Балаклеев И.И. Не присваивайте себе Верховной Власти при составлении государствен ной росписи // там же, с. 141.
-
11 Балаклеев И.И. Есть ли в России конституция // там же, с. 109.
-
12 Катков В.Д. Указ. соч., с. 85.
диционном консервативном ключе говорил М.О. Меньшиков, называвший импе-ратора «священной главой народа»1. По мнению публициста, народ «влюблен» в самодержавие как в «выражение богатыр-ства своего»2.
Князь В.П. Мещерский, с другой сто -роны, писал о любви царя к народу и к России: «Эта вера в спасительную силу любви царя к своему народу да будет нашей государственной силой... Да, сила этой любви царя к России, столетиями творившая чудеса ее роста и ее возвеличе ния, неизмеримо велика...»3
В годы революционных потрясений 1905—1907 гг., наряду с идеей единства царя и народа, большое значение приоб ретает мысль о патриархальном характере царской власти, о котором, в частности, писал протоиерей Николай Стеллецкий4. Тем самым, русские подданные, высту-павшие против монарха, отождествлялись с детьми, идущими против отца.
Одной из главных тем стал вопрос о конституции. Отвечая на разговоры либе ралов о желательности представительных форм правления, В.А. Грингмут указы -вал, что у народа уже есть свой — един -ственный — представитель, которым явля-ется государь5. Конституция в понимании В.А. Грингмута есть некий контракт, согла-шение, официально закрепленный ком промисс между враждующими сторонами. Но в России «народ спокон веков пови нуется своему монарху не по контракту, а по вере Христовой — как Помазаннику Божию, по верноподданнической присяге — как Самодержцу, и по сыновней любви — как своему Царю - Батюшке. Никогда еще, с тех пор, как стоит Россия, Русский Царь с Своим Народом не враждовал, а потому им нет надобности подписывать контракт или конституцию»6.
Отвечая деятелям демократического направления, М.О. Меньшиков указывал, что «многоглавая власть в народе никогда не пользуется тем высоким авторитетом, как единодержавная, и никогда не в состо янии передать свое обаяние на низших ее служителей»7.
В ряде случаев изменение положе ния во властной структуре Российской империи, наступившее после Манифеста 17 октября 1905 г., привело к перемене позиций многих консерваторов, хотя бы и временной. Даже такой твердый сторонник самодержавия, как князь В.П. Мещерский, чьим идеалом было царствование Николая I, принял было идею конституции8. Некоторое время он полагал, что конституция — это неизбежный «рок России», и связывал с ее введе нием «долгожданное успокоение обще ства, конец безвластию и смуте»9. Но «конституционный» период во взглядах князя В.П. Мещерского длился недолго: впоследствии он выступал за ограничение прав Государственной думы10. Так, он счи-тал ненормальным такое положение, что царь может принять ту или другую меру, необходимую, по его убеждению, для блага Родины, лишь с одобрения боль шинства членов каждой из обеих законо дательных палат11. Другая позиция была у М.О. Меньшикова, который в период дуалистической монархии неизменно выступал за «упрочение русской государ ственности на началах самодержавной
-
6 Грингмут В.А. Руководство черносотенца-монархиста // Собрание статей, вып. IV, с. 136.
-
7 Меньшиков М.О. Вера и карьера // Как вос-креснет Россия? Избранные статьи. — СПб. : Русская симфония, 2007, с. 274.
-
8 Глинский Б. Князь Владимир Петрович Мещерский: некролог // В.П. Мещерский. Мои воспоминания. — М. : Захаров, 2003, с. 837, 839.
-
9 Черникова Н.В. Князь Владимир Петрович Мещерский и революция (1904—1907) // Консерватизм в России и мире. Ч. II. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2004, с. 168.
-
10 Глинский Б. Указ. соч., с. 839; Аврех А.Я. Царизм и IV Дума, 1912—1914 гг — М. : Наука, 1981, с. 82, 117; Черникова Н.В. Указ. соч., с. 175.
-
11 Допрос И.Г Щегловитова, 26 апреля 1917 г. // Падение царского режима. Т II. — Л.; М. : Гос. изд во, 1925, с. 435.
власти царя в единении с законодательным народным представительством»1.
Среди консерваторов, сохранивших верность своим дореформенным позициям, был В.А. Грингмут. Публицист считал, что «демократическая конституция вредна и гибельна не только для России, но для каждого без исключения государства»2. В ходе событий 1905–1907 гг. многие консерваторы, ранее выступавшие против народного представительства, смирились с этой идеей, хотя бы в виде совещательного органа. В.А. Грингмут же продолжал категорически выступать против даже законосовещательного представитель-ства3.
Князь В.П. Мещерский указывал, что всякое ограничение монаршей воли «есть искажение истинной воли Бога и народа и таким образом почти что кощунство»4.
Консервативно-теоретические взгляды по вопросам монархической власти отличались разнообразием. В ходе политических перемен 1905–1907 гг. некоторые консерваторы предприняли попытку инкорпорировать в представление о божественном происхождении самодер- жавия идею народа как источника власти, почерпнутую из либеральных теорий «народного суверенитета» и «общественного договора». Конкретизировались и углублялись рассуждения о пределах императорской власти, особые споры вызывало понятие неограниченности и его толкования. Вопросы о представительных учреждениях, ранее носившие чисто теоретический характер, в новых условиях были вынуждены отталкиваться от реальности. Некоторые консерваторы стали признавать возможность наличия законодательной власти у данных органов, другие же (большинство) считали, что такие учреждения могут иметь лишь совещательный голос, а третьи продолжали категорически отвергать возможность самого их существования. До государственной реформы факт наличия самодержавия в России не вызывал сомнений; теперь же, после появления новой редакции Основных законов, это нужно было доказывать. В результате консерваторы, расходясь в вопросе о наличии законодательной власти у представительных органов, сошлись во мнении, что самодержавие в России все-таки сохранилось.
Консервативные мыслители не остались безучастными к происходившим политическим изменениям. На основе накопленного теоретического багажа, развивая и совершенствуя консервативную идеологию, они предпринимали попытки защитить и отстоять те ценности, которые считали базовыми для России.