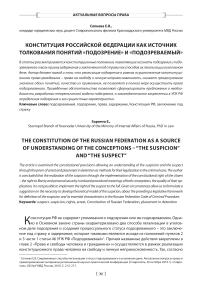Конституция Российской Федерации как источник толкования понятий "подозрение" и "подозреваемый"
Автор: Сопнева Е.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Актуальные вопросы права
Статья в выпуске: 1 (38), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются конституционные положения, позволяющие осознать подозрение и подо- зреваемого сквозь призму задержания и заключения под стражу как способов их легализации в уголовном деле. Автор делает вывод о том, что реализация подозрения в рамках осуществления конституци- онного права гражданина - права на свободу и личную неприкосновенность, снижает процессуальное значение обоих понятий, качество их применения, не позволяет в полной мере осуществить права подозреваемого. Приведённые обстоятельства позволяют сформулировать предложение о необхо- димости разработки теоретической модели подозрения, о законодательном закреплении в УПК РФ определения подозрения и его сущностных характеристик.
Подозреваемый, подозрение, права, конституция рф, заключение под стражу
Короткий адрес: https://sciup.org/14119746
IDR: 14119746
Текст научной статьи Конституция Российской Федерации как источник толкования понятий "подозрение" и "подозреваемый"
The article is examined the constitutional provisions allowing an understanding of the suspicion and the suspect through the prism of arrest and placement in detention as methods for their legalization in the criminal case. The author is concluded that the realization of the suspicion through the implementation of the constitutional right of the citizen – the right to liberty and personal security is reduced procedural meanings of both conceptions, the quality of their application, it is not possible to implement the right of the suspect to the full. Given circumstances allow us to formulate a suggestion on the necessity to develop theoretical model of the suspicion, about the providing a legislative framework for definition of the suspicion and its essential characteristics in the Russian Federation Code of Criminal Procedure. Keywords: suspect, suspicion, rights, arrest, Constitution of Russian Federation, placement in detention
Конституция РФ не содержит упоминания о подозрении или же подозреваемом. Однако в Основном законе страны охарактеризовано два способа легализации в уголовном деле подозрения и создания процессуального статуса подозреваемого – это заключение под стражу и задержание, которые таковыми являются исходя из положений пунктов 2 и 3 части 1 статьи 46 УПК РФ «Подозреваемый»1. Причем названные действия закреплены в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» и осуществляются в рамках реализации конституционного права человека на свободу и личную неприкосновенность. Так, согласно положениям статьи 22 Конституции РФ «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».
Анализ положений Конституции РФ позволяет сформулировать вывод о том, что задержанию и заключению под стражу придается статус действий, которые применяются в исключительных случаях и в особом порядке, поскольку направлены на ограничение конституционных прав граждан.
Итак, в конституционно-правовом смысле задержание и заключение под стражу реализуются в рамках права гражданина на свободу и неприкосновенность личности. Тогда их можно рассматривать как способы ограничения соответствующего права гражданина. При этом одновременно посредством их применения и ограничения конституционного права гражданина на свободу и неприкосновенность личности в уголовном деле легализуется подозрение.
Полагаем неприемлемым такой поход по следующим причинам.
Здесь допускается смешение разных по содержанию действий и решений, имеющих право на автономное существование, разноплановых статусов – мер уголовно-процессуального принуждения, участника уголовного судопроизводства, прав и свобод граждан.
Исключительность задержания и заключения под стражу как мер, ограничивающих конституционное право гражданина, не распространяется на подозрение.
Установка Верховного Суда РФ об обязательном признании доказательств, полученных с нарушениями закона, если при их собирании были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина2 оправдана как гарантия соблюдения абсолютных прав человека, но не адекватна природе подозрения, однако не позволяет его сохранить при принятии соответствующего решения.
Одновременная реализация подозрения и права гражданина на свободу и личную неприкосновенность не позволяет обеспечить качество процесса формулирования и отражения вматериалах уголовного дела подозрения, а значит и реализации прав подозреваемого.
«Маскировка» подозрения под право гражданина, под меры принуждения скрывает важное процессуальное положение подозрения в уголовном судопроизводстве.
Заключение под стражу и задержание как способы легализации подозрения в уголовном деле неадекватны его назначению, смыслу и содержанию. Соответственно у них разные цели, признаки, содержание, сроки. Например, задержание и заключение под стражу в их законодательном воплощении и процессуальном содержании не преследуют цель реализовать подозрение. При процессуальном оформлении указанных мер фиксируются основания и условия их избрания, а не причины создания статуса подозреваемого и основания подозрения. Окончание срока задержания не свидетельствует о прекращении подозрения лица в причастности к преступлению.
Попутно обратим внимание, что обвиняемому как возможному процессуальному правопреемнику подозреваемого посвящена статья 49 Конституции РФ, согласно которой «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого».
Приведенная норма Основного закона страны позволяет сделать вывод, что уже на конституционном уровне заложено игнорирование статуса подозреваемого, что умаляет его процессуальное значение. При этом отметим, что именно в отношении подозреваемого первоначально формулируется подозрение как предположение о причастности к преступлению. Первым в уголовном судопроизводстве реализуется статус подозрения, а не обвинения. Анализ уголовных дел3 показал, что в каждом проявляется подозрение и присутствует процессуальный статус подозреваемого лица, но не в каждом – обвинение и обвиняемый.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ (статья 15). В соответствии с частью 2 статьи 48 Конституции РФ каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Однако здесь не заложены основы для защиты от публичного подозрения как сомнения в добропорядочности гражданина. Полагаем, что право на защиту лица, в отношении которого сформулировано предположение о причастности к преступлению, должно быть реализовано с соответствующего момента и декларировано на самом высоком правовом уровне – в Основном законе страны. Обратим внимание на момент допуска защитника применительно к заключению под стражу. В Конституции РФ не заложены правовые основы понимания такого момента. Возможно, здесь подразумевается фактический момент заключения под стражу. Однако отметим, что момент заключения под стражу можно рассматривать сфактической и процессуальной позиций.Так,допустимо разделить во времени моменты принятия процессуального решения о заключении под стражу (избрание меры пресечения) и фактического заключения под стражу лица. При «правовом молчании» Основного закона страны обратимся к УПК РФ в части реализации рассматриваемого положения. Согласно пункту 3 части 3 статьи 49 УПК РФ «защитник участвует в уголовном деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях: ...б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса меры пресечения в виде заключения под стражу». В пункте 29 статьи5 УПК РФ применениемеры пресечения рассматривается как процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения. В УПК РФ (п. 13 ст. 5) предусмотрено понятие избрания меры пресечения – принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого. Принятие соответствующего решения должно создавать право лица на защиту от ограничения его неприкосновенности. Тогда логичнее использовать в УПК РФ вместо слова «применение» слово «избрание». Кроме того, вызывает возражения установленная законом взаимосвязь момента применения меры пресечения во взаимосвязи с фактическим задержанием. Это два разных в процессуальном и фактическом смыслах действия, не взаимосвязанные и не последовательные во всех случаях. Вместе с тем полагаем, что ни одно из приведенных положений уголовно-процессуального закона не содержит момента вступления защитника в уголовное дело, адекватного смыслу, заложенному в норме Конституции РФ. Обратим внимание, что рассматриваемые ситуации означают использование норм Конституции РФ и вне процессуальной деятельности, которую мы связываем с моментом фактического задержания, что вызывает потребность обеспечить ее соответствующим лицом, например, заподозренным.
Ученые также обращают внимание на проблемы задержания во взаимосвязи с реализацией конституционных прав гражданами. Так, И. Маслов указывает на необходимость детальной регламентации оснований и процедуры ограничения конституционных прав граждан. Правовая регламентация задержания должна быть детальной4.
Обратимся и к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». В документе, по сути, прописаны правила реализации статьи 15 Основного закона страны. В частности, суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности:
-
а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения;
-
б) когда Конституционным Судом РФ выявлен пробел в правовом регулировании либо когда пробел образовался в связи с признанием не соответствующими Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом порядка, сроков и особенностей исполнения решений Конституционного Суда РФ, если они в нем указаны.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием(статья 18 Конституции РФ). Однако, на наш взгляд, право гражданина на свободу и неприкосновенность личности, провозглашенное в Конституции РФ, некоторым образом не воспринимается в положениях УПК РФ. В частности, согласно п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения. Такое решение принимается по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Полагаем, что продление срока задержания для предоставления дополнительных доказательств обоснованности избрания заключения под стражу не адекватно статусу права на свободу и неприкосновенность личности. Считаем, что нельзя компенсировать недостатки в работе представителей сторон обвинения или защиты увеличением срока нахождения лица в изоляции. Критерии обоснованности избрания заключения под стражу прописаны в уголовно-процессуальном законодательстве. Отсюда задача участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения (следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, прокурор) и со стороны защиты (адвокат) систематизировать необходимые данные, представить соответствующие документы и довести их до сведения суда. Наблюдается ситуация в которой конституционное право гражданина на свободу и неприкосновенность личности корректируется уголовно-процессуальным законом при установлении иной юридической иерархии рассматриваемых актов.
Таким образом, реализация подозрения в рамках осуществления конституционного права гражданина – права на свободу и личную неприкосновенность, снижает процессуальное значение обоих понятий, качество их применения, не позволяет в полной мере осуществить права подозреваемого. Кроме того, наблюдается «двойная маскировка» подозрения, как под право гражданина, так и под способы его ограничения через задержание и заключение под стражу. Так, их применение должно быть оправданно конституционными целями5, которые реализуются вне взаимосвязи с подозрением. В отличие от подозрения эти действия используются в исключительных случаях. Приведенные обстоятельства позволяют сформулировать предложение о необходимости разработки теоретической модели подозрения, о законодательном закреплении в УПК РФ определения подозрения и его сущностных характеристик.
Список литературы Конституция Российской Федерации как источник толкования понятий "подозрение" и "подозреваемый"
- О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31октября 1995 г. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
- О проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 26. Ст. 3185.
- «О проверке конституционности частей четвертой, пятой и шестой статьи 97 Уголовно- процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан П.В. Янчева, В.А. Жеребенкова и М.И. Сапронова»: Определение Конституционного Суда РФ от 25.12.1998 № 167-О.
- Маслов И. Проблемы применения законодательства о задержании подозреваемого // Уголовное право. 2012. № 1.
- Сопнева Е.В. Современные способы легализации статуса подозреваемого в уголовном деле. Актуальные вопросы права и правоприменения: материалы региональной научно-практической конференции (Ставрополь, 26 октября 2010г.). Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2010. С. 213-217.