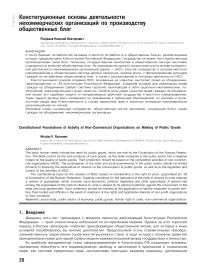Конституционные основы деятельности некоммерческих организаций по производству общественных благ
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.
Бесплатный доступ
К числу базовых потребностей человека относятся потребности в общественных благах, удовлетворение которых предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Государство не может быть единственным производителем таких благ, поскольку государственная монополия в общественном секторе негативно отражается на качестве общественных благ. Их производство должно осуществляться на основе конкурентной деятельности некоммерческих организаций (далее - НКО). Участие государства и органов местного самоуправления в общественном секторе должно сводиться, прежде всего, к финансированию расходов граждан на потребление общественных благ, а также к регулированию и контролю деятельности НКО.Конституционной основой создания НКО, основанных на членстве, выступает право на объединение, гарантированное ст. 30 Конституции Российской Федерации. Создание условий для реализации права граждан на объединение требует системы гарантий, включающей в себя социально-экономические, политические, законодательные и иные гарантии. Особую роль среди гарантий права граждан на объединение играет его судебная защита от неправомерных действий государства и местного самоуправления. Такая защита должна быть направлена на применение к публичным образованиям, их органам и должностным лицам мер ответственности в случае нарушения прав и законных интересов некоммерческих организаций или их членов.
Социальное государство, общественный сектор экономики, социальные блага, право граждан на объединение, некоммерческие организации
Короткий адрес: https://sciup.org/14121157
IDR: 14121157
Текст научной статьи Конституционные основы деятельности некоммерческих организаций по производству общественных благ
Двадцать пять лет, прошедших с момента принятия действующей Конституции Российской Федерации, — срок относительно небольшой по историческим меркам. Однако за этот короткий период в России произошли глубокие трансформации общественной жизни, для которых в иных условиях потребовались бы многие десятилетия. Предпосылкой столь стремительных преобразований явилось закрепление основ конституционного строя, в ходе которого получила развитие принципиально новая для нашей страны модель взаимоотношений между государством и личностью.
Ее идейным фундаментом стала сформулированная в Конституции РФ концепция человека, призванная обеспечить его индивидуальную свободу и автономию в природном и социальном мире, как система суверенных прав, неотъемлемо присущих каждому индивиду. Центральное место в этой системе занимают потребность в личном пространстве, а также тесно связанные с ней потребности в свободе, духовном творчестве и иных нематериальных благах. Представляется отнюдь не случайным признание человека, его свободной воли и основных, неотчуждаемых прав, закрепленных основным законом страны, высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ)1.
СТАТЬИ
Среди прочего Конституция Российской Федерации гарантирует неотъемлемые права человека на доступ к общественным благам, включая такие, как жизнь, здоровье, образование, безопасность, культурные ценности. К числу прав и свобод, значимых в социально ориентированной рыночной экономике, относятся право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены2, на охрану здоровья, на образование и иные права, перечисленные в ст. ст. 37–43 Конституции Российской Федерации. Большое значение имеет также реализация культурных прав и свобод, закрепленных в ст. 44 конституции, а именно свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, а также права на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям3.
Указанное обстоятельство нашло отражение в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 16.11.2004 № 16-П, где культурные права и свободы, в том числе права в области общения, определяются в качестве необходимых элементов конституционного статуса личности4. Ученые-конституционалисты также видят в обеспечении культурных прав и в производстве соответствующих благ условие динамичного развития современного российского общества. По их мнению, задача демократического социального государства на современном этапе развития состоит в создании условий для всесторонней реализации творческих способностей человека, поскольку культурное творчество выступает важным аспектом индивидуальной и социальной свободы5.
2. Конституционная доктрина социального государства: pro и contra
Перечисленные конституционные права представляют собой установленные и юридически гарантированные основным законом притязания личности на общественные блага, необходимые для полноценной и всесторонней реализации человеческой свободы в социальной жизни. Мировой опыт свидетельствует, что производство и предоставление подобных благ не могут быть поставлены на чисто рыночную основу. Природа общественных благ и их характерные особенности (такие, в частности, как неделимость, неконкурентность в потреблении, невозможность исключения из числа потребителей так называемых «безбилетников») делает их производство заведомо убыточным и не представляющим интереса для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность ориентирована на получение прибыли.
Этим агентам рынка обязанность производства общественных благ может быть принудительно навязана законом. Однако такой путь ведет лишь к существенному снижению качества производимых благ и предоставляемых потребителю услуг. Данное обстоятельство отмечалось рядом экономистов (в частности, Дж. Ст. Миллем, Дж. Ледьярдом, М. Блаугом, Л. И. Якобсоном и др.), предлагавших для преодоления «провалов рынка» признать естественную монополию в производстве общественных благ за государством6. Так возникла доктрина «государства всеобщего
СТАТЬИ
благосостояния», являвшаяся господствующей в экономической политике западных стран во второй половине минувшего столетия.
Наиболее полное выражение данная идея получила в принципе социального государства, закрепленном в том числе в п. 1 ст. 7 Конституции РФ, провозгласившим Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. К числу основных направлений деятельности социального государства основной закон относит охрану труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального размера оплаты труда, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных мер социальной защиты населения7.
Естественно, что указанные направления требуют наличия соответствующей экономической базы, в качестве которой выступает так называемый общественный сектор экономики. Не случайно многие теоретики видели в общественном секторе едва ли не монопольную сферу хозяйственной деятельности социального государства. Исходя из этого, принято было считать, что имущественным компонентом общественного сектора выступает публичная (государственная и муниципальная) собственность, пользующаяся признанием и защитой наравне с частной собственностью граждан и юридических лиц, а также государственные и муниципальные финансы, в первую очередь бюджетные средства.
Со временем, однако, обнаружились системные недостатки и противоречия «государства всеобщего благосостояния», испытывающего не меньшие провалы, чем стихия свободного рынка8. Обнаружилось, что государство в процессе производства и предоставления общественных благ сталкивается с острым дефицитом информации, являющейся в силу своей асимметричности9 невосполнимым ресурсом в условиях централизации, присущей государственным структурам. Как следствие, проблемой становится низкое качество предоставляемых государством общественных благ. Кроме того, представление о том, что именно государство выступает основным, если не единственным, производителем общественных благ, порождает патерналистские представления о его роли и месте в общественной жизни, служащие едва ли не главным недостатком социального рыночного хозяйства, сводящим на нет достоинства данной концепции.
Стимулируя государственный патернализм, а также иждивенческие настроения широких слоев населения, доктрина социальной рыночной экономики идеологически обосновывает неограниченную экспансию государства и подавление частной инициативы под благовидными предлогами обеспечения «социальной справедливости», поддержки малоимущих и незащищенных членов общества и т. п. В свою очередь, государственное вмешательство в экономическую жизнь оказывает далеко идущее негативное воздействие и на частный сектор, создавая угрозу застоя и неэффективности в решении стоящих перед ним задач. Альтернативой подобной ситуации представляется максимально широкое внедрение в общественный сектор экономики квазирыночных структур, создаваемых путем привлечения частной собственности и частных производителей в данную сферу.
3. Некоммерческие организации как основной производитель общественных благ
Имеются основания утверждать, что на производство общественных благ должна быть направлена, в первую очередь, деятельность некоммерческих организаций (НКО), не имеющих извлечение прибыли основной целью и не распределяющих полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ)10. Вместе с тем, поскольку учредительные документы всех НКО, так или иначе, предполагают осуществление деятельности, направленной на извлечение прибыли, они могут быть участниками как рынка, так и разнообразных квазирынков, формируемых в общественном секторе экономики. В свою очередь, участие государства и органов местного самоуправления в общественном секторе в основном должно сводиться к финансированию расходов по- требителей общественных благ, самостоятельно и на конкурентной основе выбирающих их частных производителей11.
СТАТЬИ
Важно подчеркнуть, что расходы из государственного и муниципальных бюджетов не являются единственным источником финансирования потребления общественных благ. Значительную долю финансов, аккумулируемых общественным сектором, составляют частные средства, включая средства самих потребителей, что позволяет повысить заинтересованность последних в качестве предоставляемых благ. Подобная система, делающая основной упор на конкуренцию частных производителей общественных благ, представляется более эффективной, чем их производство непосредственно государством или государственное финансирование ограниченного числа про-изводителей-олигополистов12. Как отмечают исследователи, «частная собственность в условиях конкуренции стимулирует более эффективное использование ресурсов и в большей степени отвечает запросам потребителей, нежели государственная собственность»13.
Широко известен британский опыт формирования квазирыночных структур в общественном секторе экономики. Отличительной чертой британской модели организации общественного сектора является использование ваучеров, т. е. особого рода ценных бумаг, дающих их обладателям право требовать предоставления соответствующей доли общественных благ. Ваучеры были призваны способствовать решению проблем, проистекающих из самой природы общественных благ, обеспечивая тем самым адресность их предоставления потребителям14. Итогом стало формирование в Великобритании в 1980–1990-х гг. хорошо зарекомендовавших себя на практике квазирынков для самого широкого спектра общественных благ и услуг, прежде всего, в сфере образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и т. п.
Для сравнения отметим, что в нашей стране квазирыночные механизмы в общественном секторе экономики формируются замедленными темпами, далеко не одинаковыми в различных его сегментах. Одним из активно развивающихся квазирынков является жилищно-коммунальное хозяйство, где уже к началу нынешнего десятилетия свыше 50% жилищного фонда обслуживалось управляющими компаниями, а в некоторых субъектах Российской Федерации (например, в Московской области) этот показатель составил 80%15. В то же время функционирование управляющих компаний ЖКХ сопряжено с рядом системных трудностей, пути преодоления которых до конца не намечены.
Этот опыт, успешно применявшийся не только в Великобритании, но и в иных странах, позволил некоторым теоретикам выступить с предложением пойти еще дальше, распространив рыночные или квазирыночные принципы на производство любых общественных благ, включая и те, которые традиционно относились к сфере ответственности государства, его органов и должностных лиц (например, охрана правопорядка, правосудие, борьба с преступностью и т. п.). Бесспорно, подобные рекомендации выглядят вполне утопичными и плохо реализуемыми на практике. Их главным недостатком представляется наивная уверенность в возможности решить исключительно экономическими средствами проблемы, требующие комплексного решения. В частности, кажется очевидным, что полицейский произвол и насилие преодолеваются не приватизацией полиции, а формированием механизмов демократии, включающих в себя и гражданский контроль за деятельностью правоохранительных органов, т. е. за качеством производимых ими общественных благ.
Вместе с тем данная концепция содержит в себе рациональное зерно. А именно в корне ошибочно видеть в государстве основного производителя и поставщика общественных благ, за исключением тех, которые, подобно правосудию или борьбе с преступностью, не могут предоставляться частным образом (хотя и участие в этом частных лиц полностью нельзя исключать). Более верным кажется иной подход к общественному сектору экономики, видящий в нем сложное переплетение рыночных и квазирыночных механизмов. Согласно данному подходу, предоставление многих общественных благ (примером чему служат возмездные образовательные или медицинские услуги) может быть коммерциализовано в целях повышения их качества.
Производство же тех благ, которые в силу их неимущественного характера не могут предоставляться потребителю исключительно на рыночной основе, должно осуществляться квазирыночными
СТАТЬИ
структурами, основными участниками которых выступают НКО, основанные на частной собственности, что позволит минимизировать участие государства в общественном секторе. Речь идет, следовательно, о децентрализации процессов принятия решений и о передаче основной ответственности за производство общественных благ НКО. Последние, будучи независимыми субъектами, основанными на частной собственности, не встроены в систему иерархических связей, а потому свободны в выборе оптимальных стратегий производства общественных благ. То есть возникают условия не только для повышения качества предоставляемых общественных благ, но и для выработки оптимальных принципов взаимодействия государства и частных производителей этих благ в общественном секторе экономики.
4. Право граждан на объединение и его юридические гарантии
В свете вышеизложенного возникает важная практическая задача обеспечения и защиты права граждан на объединение, предусмотренного ст. 30 Конституции Российской Федерации. Право на объединение выступает конституционной основой создания и деятельности НКО, базирующихся на участии в них граждан и организаций (таких как общественные объединения, ассоциации, потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья и т. п.)16. Представляется, что всесторонняя реализация данного права физическими и юридическими лицами не только станет важным стимулом для развития структур гражданского общества в нашей стране, но и позволит стимулировать производство общественных благ частными субъектами.
Как уже было отмечено, обеспечение права граждан на объединение требует комплексного подхода, направленного на создание системы гарантий, включающей в себя социально-экономические, политические, законодательные и иные гарантии17. Между тем приходится констатировать, что в Российской Федерации эта система до конца не оформилась, что тормозит деятельность НКО по предоставлению общественных благ и одновременно препятствует развитию общественного сектора экономики, основанного на гражданской инициативе. Среди различных причин следует выделить ограниченность источников финансирования деятельности некоммерческих организаций, наличие законодательных противоречий и пробелов, недостаточную эффективность судебных гарантий.
Не последнюю роль играет также отсутствие ясных представлений о юридической природе НКО, равно как и о целях и задачах их деятельности. Так, нельзя согласиться с распространенными утверждениями (основанными на буквальном толковании п. 2 ст. 2 федерального закона «О некоммерческих организациях»)18, в соответствии с которыми последние должны быть полностью лишены права осуществлять иную деятельность, помимо направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, на удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиту прав, законных интересов граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, а также иных целей, связанных с производством общественных благ. Речь идет, таким образом, о практически полном запрете на осуществление НКО приносящей доход деятельности под тем предлогом, что содержание такой деятельности «осталось законодательно неопределенным, что, безусловно, создает возможности для разного рода злоупотреблений»19.
Между тем следует понимать, что осуществление приносящей доход (коммерческой) деятельности для НКО выступает не самоцелью, но способствует достижению основных целей их деятельности. Будучи лишенными важного источника дохода, НКО утратят свою финансово-экономическую самостоятельность, что приведет к усилению их зависимости от государства, и без того немалой. Вот почему трудно признать правоту тех юристов, кто, стремясь к догматической чистоте понятий, полагает, что получение дохода не может входить в число направлений деятельности НКО в силу некоммерческого характера последней. Собственно, не содержание деятельности, но лишь градация ее основных целей, на наш взгляд, позволяет отличать коммерческие организации от некоммерческих, в том числе на уровне законодательного регулирования.
Сказанным определяется и еще одно направление совершенствования правового положения НКО, на котором приходится остановиться лишь бегло. Речь идет о наделении некоммерческих организаций, осуществляющих производство и предоставление общественных благ, общей правоспособностью. Как известно, в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ правоспособность НКО является специальной. Они могут иметь лишь такие субъективные права и обязанности, которые соответствуют основным целям деятельности, предусмотренным учредительными документами. В этом состоит отличие НКО от коммерческих организаций, обладающих общей правоспособностью и могущих иметь любые права и обязанности, не запрещенные законом.
СТАТЬИ
Данное ограничение пределов свободы деятельности НКО получило развитие в судебной практике. Так, определением Конституционного суда РФ от 19 февраля 1996 г. №5-О установлено, что пределы деятельности НКО устанавливаются не только учредительными документами, но и сформулированной в п. 2 ст. 15 Конституции РФ обязанностью соблюдать законы20. Тем самым было установлено «каучуковое положение», поскольку обязанность соблюдения Конституции РФ и российских законов имеет всеобщий характер, распространяясь не только на граждан и организации, но и на государство, а также иные публично-правовые образования. Поэтому акцентирование данной обязанности применительно к НКО, на наш взгляд, может способствовать лишь введению режима императивного регулирования их деятельности в правоприменительной и судебной практике. Во избежание подобной ситуации представляется целесообразным законодательно закрепить норму, в соответствии с которой НКО, основная цель деятельности которых связана с производством и потреблением общественных благ, в том числе потребительские кооперативы, ассоциации (союзы), благотворительные и иные фонды, автономные некоммерческие организации и т. п. могут обладать любыми правами и обязанностями, не запрещенными действующим законодательством, включая, разумеется, и обязанность, предусмотренную п. 2 ст. 15 Конституции РФ.
Представляется, что особую роль в системе гарантий права граждан на объединение играет его судебная защита на всех уровнях. Очевидно, что нарушения данного права, требующие судебного вмешательства, имеют многообразный характер. К числу таких нарушений относятся не только неправомерные действия частных физических и юридических лиц (например, запрещенная ст. 10 ГК РФ шикана — осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с заведомо противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав), но также, и в первую очередь, произвол органов публичной власти.
Не секрет, что в настоящее время чрезвычайно распространенными являются действия государства, его органов и должностных лиц, направленные на воспрепятствование реализации права граждан на объединение. Речь, в частности, идет о необоснованных отказах в государственной регистрации НКО, становящихся возможными в ситуации, когда сама эта процедура на законодательном уровне излишне усложнена в сравнении с государственной регистрацией коммерческих организаций. Это создает предпосылки для произвольного усмотрения компетентных органов в вопросе об отказе НКО в регистрации. В данной связи представляется вполне здравыми и обоснованными предложения ряда юристов упростить процедуру государственной регистрации НКО, распространив на последние (с учетом, разумеется, специфики их деятельности) общие нормативные положения о государственной регистрации коммерческих организаций.
Тем не менее создание законодательных гарантий права на объединение, равно как и условий, стимулирующих деятельность НКО по производству общественных благ, является необходимым, но далеко не достаточным требованием. Важно уже сейчас стремиться к формированию устойчивой судебной практики, препятствующей необоснованным отказам в государственной регистрации НКО, а также отказам в регистрации на основаниях, не применяемых в отношении коммерческих организаций. Иными словами, судебные органы должны способствовать выработке единой процедуры государственной регистрации для всех организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Более того, гарантией права на объединение, реализуемой в деятельности судебной власти, стало бы установление режима наибольшего благоприятствования при государственной регистрации тех НКО, основной целью деятельности которых является производство и предоставление общественных благ.
СТАТЬИ
Также в соответствии с положениями ст. 11 и 12 ГК РФ судебная защита является основным средством обеспечения имущественной самостоятельности НКО. Именно судам принадлежит ведущая роль в защите права собственности данной категории субъектов, в том числе в случаях его принудительного прекращения по основаниям, предусмотренным законом. К числу подобных оснований относятся, например, обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237 ГК), прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать (ст. 238 ГК), отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится (ст. 239 ГК), отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (ст. 239.2 ГК) и др.
Очевидно, что во всех перечисленных случаях произвольные действия со стороны государства, его органов и должностных лиц не только подрывают стабильность имущественных отношений, но и крайне негативно отражаются на реализации права на объединение, способствуя снижению качества общественных благ, производимых НКО. Представляется, что создание эффективных средств судебной защиты позволит преодолеть негативные тенденции, складывающиеся в данной сфере. В перспективе целью, на достижение которой должны быть направлены законодательство, судебная практика, а также усилия научного юридического сообщества и иных представителей гражданского общества, является формирование механизма ответственности государства и иных публично-правовых образований перед частными лицами, в том числе перед некоммерческими организациями.
Таким образом, судебная защита НКО от незаконных или иных недобросовестных действий со стороны государства и органов местного самоуправления, как ничто иное, будет способствовать обеспечению реализации конституционного права на объединение и, как следствие, развитию институтов гражданского общества, а также совершенствованию структур общественного сектора экономики.
Список литературы Конституционные основы деятельности некоммерческих организаций по производству общественных благ
- Агишев Р. А. Конституционные основы и гарантии права человека и гражданина на объединение в Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 3 (37). С. 37-46.
- Андрущак Г. В. Квазирынки в экономике общественного сектора // Экономика образования. 2008. № 3. С. 214-225.
- Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1996.
- Ивакина Д. С. Понятие и система культурных прав и свобод человека и гражданина в России // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 9. С. 145-148.
- Кельзен Г. Чистое учение о праве. Изд. 2-е. СПб.: ИД "Алеф-пресс", 2015.