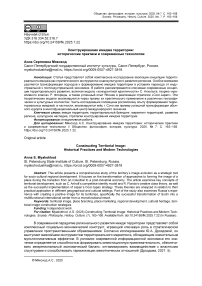Конструирование имиджа территории: исторические практики и современные технологии
Автор: Мякоход А.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой комплексное исследование эволюции концепции территориального имиджа как стратегического инструмента социокультурного развития регионов. Особое внимание уделяется трансформации подходов к формированию имиджа территории в условиях перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике. В работе рассматриваются ключевые современные концепции территориального развития, включая модель «конкурентной идентичности» С. Анхольта, теорию «креативного класса» Р. Флориды, а также успешный опыт Японии в реализации стратегии «Cool Japan». Эти теоретические модели анализируются через призму их практического применения в различных географических и культурных контекстах. Часть исследования посвящена российскому опыту формирования территориальных имиджей, в частности, анализируется кейс г. Сочи как пример успешной трансформации обычного курорта в многофункциональный центр международного значения.
Имидж территории, территориальный брендинг, маркетинг территорий, развитие региона, культурное наследие, стратегии конструирования имиджа территории
Короткий адрес: https://sciup.org/149148800
IDR: 149148800 | УДК: 316.334.52:316.7 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.22
Текст научной статьи Конструирование имиджа территории: исторические практики и современные технологии
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, Россия, ,
St. Petersburg State Institute of Culture, St. Petersburg, Russia, ,
Феномен территориального конструирования имиджа имеет глубокие исторические корни, проявляющиеся в различных формах стихийного продвижения мест на протяжении веков. Сакральный аспект этого феномена реализовывался через создание культовых центров, обладавших мощным аттрактивным потенциалом (Браун, 2004: 55).
На территории Российского государства в XVI–XVII вв. данные процессы происходили вокруг монастырских центров, которые, выступая средоточием не только духовной, но и экономической жизни, становились ключевыми местами концентрации торговой активности, что способствовало их дальнейшему развитию как узловых элементов хозяйственной системы (Веселовский, 1923). Монастыри, получавшие доходы от торговых пошлин, активно способствовали развитию инфраструктуры и притоку населения. Сочетание религиозного и торгового взаимодействия порождало и новые городские образования – Жиздра в Калужской области, Сергиев Посад в Московской области и др. Подобный синтез религиозного и экономического начал стал характерной особенностью российской модели территориального развития в указанный период.
Период XVIII–XIX вв. ознаменовался становлением специализированных территориальных брендов, связанных с уникальными ремесленными производствами. Феномен гжельского фарфора, вологодского кружева или тульских самоваров демонстрирует, как качественная продукция может становиться основой долговременного позиционирования территории, создавая яркие ассоциации.
Д.В. Визгалов в работе «Маркетинг города» (2008) исследовал становление территориального маркетинга в Северной Америке, показав, что в условиях практически идентичных стартовых возможностей первые поселения конкурировали через активную самопрезентацию. Таким образом, заключает ученый, городской маркетинг был «родовым» признаком Соединенных Штатов (Визгалов, 2008: 15). Особый вклад в развитие территориального маркетинга в Америке внесли железнодорожные компании, став пионерами комплексного подхода к территориальному развитию, трансформировав традиционные подходы к освоению территорий. Например, «Иллинойс сентрал» (ICRR) распространяла 100 тыс. листовок и создала разветвленную сеть агентов в Нью-Йорке и Лондоне для привлечения переселенцев, консультируя их и направляя в центральные штаты (Визгалов, 2008: 15–16).
В период промышленной революции и последующей индустриализации феномен конструирования имиджа регионов претерпел существенную трансформацию, перейдя от преимущественно торгово-религиозных моделей к системному позиционированию территорий как центров промышленного производства и экономического роста. Этот процесс был обусловлен рядом ключевых факторов: развитием фабричного производства и железнодорожного транспорта в XIX в., что коренным образом изменило логику территориального развития. Промышленные регионы (Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем, Амстердам, Берлин и др.) стали формировать свой имидж вокруг производственной специализации, подчеркивая доступность сырья, развитую инфраструктуру и концентрацию квалифицированной рабочей силы; проведение международных выставках позволяло продемонстрировать технологические достижения государств; промышленная эпоха способствовала формированию устойчивых территориальных брендов, связанных с конкретными видами производства. Например, Шеффилд стал синонимом сталелитейной промышленности, Лион – шелкоткачества. Данные ассоциации закреплялись не только в экономике, но и в массовой культуре, формируя долгосрочный имидж регионов.
В условиях перехода к постиндустриальной экономике бывшие промышленные центры столкнулись с необходимостью кардинального переосмысления своей идентичности и поиска новых конкурентных преимуществ. Утратив свою изначальную производственную специализацию, города вынуждены были разрабатывать инновационные стратегии позиционирования, основанные на выявлении и акцентуации уникальных характеристик территории. Данный процесс сопровождался комплексной трансформацией городского пространства через призму культурного наследия, креативных индустрий и качества городской среды (Визгалов, 2008: 17–18).
Примерно в этот же период, то есть к концу XX в., появляется ряд исследований, посвященных маркетингу и брендингу мест. Как научная дисциплина маркетинг территорий сформировался на стыке экономики, урбанистики, социологии и маркетинга. В его основе лежит концепция позиционирования географических пространств как конкурентных объектов, привлекающих инвестиции, туристов, квалифицированных специалистов и резидентов.
Первые концепции маркетинга территорий появились в работе Ф. Котлера (род. 1931) «Основы маркетинга» («Marketing Essentials» (Коtler, 1984)). Позже, в рамках совместного исследования с другими авторами, Ф. Котлер обосновывал необходимость применения маркетинговых подходов как инструмента повышения конкурентоспособности городов в условиях усиливающейся межтерриториальной конкуренции. Данный подход базировался на убеждении, что города должны систематически анализировать свои конкурентные преимущества, разрабатывать дифференцированные стратегии позиционирования и реализовывать комплексные программы продвижения на различных целевых «рынках» – инвестиционном, туристическом, трудовом и других (Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы …, 2005: 43–65).
Научный дискурс 1990-х гг. ознаменовался появлением значимых исследований, посвященных историческому анализу маркетинговых практик территориального продвижения. Фундаментальный вклад в эту область внесла монография С. Варда «Продажа мест» (Ward, 1998), в которой прослеживается генезис маркетинговых технологий – от рекламных кампаний европейских курортных городов XVIII–XIX вв., акцентировавших природно-рекреационные преимущества, до современных комплексных стратегий позиционирования постиндустриальных территорий. Параллельно формировалось направление исследований, изучающее специфику конструирования территориальных образов (Воронин, Целых, 2011: 236), что нашло отражение в работах Дж. Голда «Имидж Шотландии» (Gold, 1995) и К. Рутейсера «Воображение Атланты» (Rutheiser, 1996). Эти исследования демонстрируют трансформацию подходов к территориальному маркетингу – от стихийного продвижения отдельных характеристик местности до системного брендинга, интегрирующего экономические, культурные и политические аспекты.
Институционализация маркетинга территорий как самостоятельного научного направления началась в 2000-х гг., что во многом стало возможным благодаря фундаментальным исследованиям С. Анхольта. В серии своих работ, таких как «Новая справедливость» (Anholt, 2003), «Бренд Америка» (Anholt, 2005), «Конкурентная идентичность: новый национальный бренд-менеджмент. Города и регионы» (Anholt, 2006), ученый разработал целостную теоретико-методологическую базу национального и регионального брендинга.
С. Анхольт предложил принципиально новую модель конкурентной идентичности, визуализированную через шестигранную матрицу (National Brand Hexagon, «шестиугольник Анхольта»), интегрирующую шесть ключевых компонентов территориального бренда: туристическую привлекательность, экспортный потенциал, политическое управление, инвестиционный климат, культурное наследие и человеческий капитал (Anholt, 2003). Данная модель позволила переосмыслить традиционные парадигмы территориального конструирования имиджа, сместив акцент с фрагментарных коммуникационных стратегий на комплексное управление репутацией территорий.
В 2005 г. С. Анхольт разработал Nation Brands Index (NBI) – первую систематизированную методику оценки имиджевого капитала государств. Индекс Anholt-GMI предназначен для количественного измерения силы и привлекательности национальных брендов, фиксируя особенности восприятия страновых характеристик международной аудиторией (Anholt, 2005). Первоначально охватывавший 25 государств, к настоящему времени исследовательский пул расширился до 50 стран. Данная методология создала принципиально новую систему координат для сравнительных исследований страновых имиджей в условиях глобализирующегося информационного пространства.
Исследования Р. Флориды («Креативный класс: люди, которые меняют будущее» (2002)) внесли существенный вклад в современную теорию территориального конструирования имиджа, обозначив принципиально новый подход к формированию образа городов и регионов. Концепция креативного класса, разработанная Р. Флоридом, переориентировала традиционные парадигмы территориального позиционирования с привлечения промышленных инвестиций на конкурентную борьбу за человеческий капитал и креативные ресурсы.
Р. Флорида полгал, что в постиндустриальной экономике ключевым фактором развития территорий становится способность привлекать и удерживать представителей креативного класса – высококвалифицированных специалистов творческих и технологических профессий. Ученый разработал систему индексов (индекс креативности, индекс «богемности», индекс толерантности), позволяющих оценивать конкурентные преимущества территорий с точки зрения их привлекательности для креативных профессионалов, сместив акцент с традиционных промышленных показателей на качество городской среды, уровень развития креативных индустрий и культурное разнообразие (Флорида, 2007: 270–290).
Работа К. Динни «Национальный брендинг: теории, вызовы, практика» («Nation Branding: Concepts, Issues, Practice», 2008) представляет собой систематизированное исследование национального брендинга как междисциплинарного феномена, находящегося на стыке маркетинга, политологии и культурологии. Ученый адаптирует классические теории брендинга (идентичность, имидж, позиционирование) к контексту территорий, подчеркивая, что национальный бренд – это не просто маркетинговый инструмент, но и культурный конструкт, отражающий коллективную идентичность и ценности нации (Dinnie, 2008: 42–46).
В культурологическом аспекте особый интерес представляет анализ «страны происхождения» (country-of-origin effect, COO), где К. Динни раскрывает, как стереотипы и историко-культурные нарративы формируют восприятие государств. COO представляет собой устойчивую когнитивноаффективную схему, посредством которой географическое происхождение продукта или услуги детерминирует потребительские установки и поведенческие паттерны. Наиболее устойчивое проявление данного феномена наблюдается в товарных категориях, где сложилась исторически обусловленная ассоциативная связь между территорией происхождения и качественными характеристиками продукции: французская парфюмерия, шотландский виски, швейцарские часы, итальянская мода, японская электроника и колумбийский кофе формируют классические примеры позитивной корреляции между COO-атрибуцией и потребительской ценностью (Dinnie, 2008: 84).
Примером может послужить опыт Японии, которая последовательно выстраивает свой национальный имидж через комплексную стратегию, органично сочетающую культурные традиции, экономические инициативы и технологические инновации. Начало этому процессу было положено в 2000-х гг., когда правительство страны приняло Основной закон об интеллектуальной собственности1 и создало специализированный Совет (Dinnie, 2008: 211), заложив правовые и организационные основы для продвижения «Japan Brand» (Топорова, 2010). Этот этап характеризовался акцентом на продвижении национальной кухни, поддержке региональных брендов вроде киотского текстиля и аритской керамики, а также развитии индустрии моды и популяризации культурных особенностей страны (Dinnie, 2008: 213).
С 2010 г. стратегия получила новое развитие через инициативу «Cool Japan», которая сместила фокус на креативные индустрии (Матосян, 2025: 48). Особое внимание стало уделяться глобальному продвижению аниме, манги, культуры J-pop и видеоигр как современных культурных феноменов, обладающих значительной «мягкой силой». Важным элементом этой стратегии стали масштабные туристические кампании с участием медиаперсон и использование международных мероприятий, таких как Олимпиада-2020 (2021), в качестве платформы для демонстрации культурного и технологического потенциала страны. Подобный комплексный подход к национальному брендингу, сочетающий государственное регулирование, частные инициативы и культурную дипломатию, позволил Японии создать устойчивый и привлекательный образ на мировой арене, одновременно способствуя собственному экономическому развитию и укреплению национальной идентичности.
Формирование целостного национального имиджа России представляет собой сложную многоуровневую задачу, обусловленную уникальным сочетанием географических, исторических и культурных факторов. Основная трудность заключается в необходимости гармоничного объединения всего многообразия этнокультурных традиций и значительных региональных различий. Современные геополитические реалии с их информационной конфронтацией дополнительно усложняют этот процесс, требуя тонкого баланса между сохранением традиционных ценностей, демонстрацией технологических достижений и отражением культурного многообразия. В этих условиях особую актуальность приобретает адаптивный подход к национальному брендингу, позволяющий сочетать общегосударственные приоритеты с уникальными особенностями регионов.
Россия обладает значительным потенциалом для создания многомерного образа, в котором общегосударственная идентичность органично дополняется региональным своеобразием. Северо-Запад страны может выступать как культурный мост между традициями и современностью, Сибирь и Дальний Восток – как территория будущего с уникальными природными ресурсами и индустриальным потенциалом. Центральная Россия играет роль хранителя исторической памяти и центра технологического развития, а южные регионы демонстрируют богатство межкультурного взаимодействия, сочетая курортные кластеры с древними культурными традициями.
Ярким примером может служить опыт современного г. Сочи, прошедшего путь от курортного центра к многофункциональному пространству, сочетающему туристическую привлекательность, экономическую динамику и культурное разнообразие. Первоначально основанный в 1838 г. как форт Александрия в период Кавказской войны, г. Сочи долгое время оставался малозначительным поселением, пока в конце XIX в. не были открыты целебные свойства мацестинских минеральных вод, что стало поворотным моментом в его развитии (Джанджугазова, 2008: 37). На рубеже XIX– XX вв. началось формирование курортного имиджа Сочи. Послевоенные десятилетия укрепили образ города как всесоюзной здравницы и круглогодичной «кузницы здоровья», способной принимать до 5 млн отдыхающих ежегодно.
Современный этап формирования имиджа г. Сочи начался с победы заявки на Олимпиаду-2014, ставшей катализатором масштабных преобразований. Город получил современную инфраструктуру, что позволило ему трансформироваться из сезонного курорта в круглогодичный многофункциональный центр с развитым пляжным, горнолыжным, оздоровительным и деловым туризмом.
Эволюция имиджа Сочи демонстрирует уникальный пример успешной трансформации городского бренда от военного форпоста до многофункционального центра международного значения.
Современная ситуация характеризуется полицентричностью территориального брендинга, где традиционные формы культурного наследия взаимодействуют с инновационными практиками. Анализ стратегий территориального брендинга выявляет важную закономерность: наиболее устойчивые образы формируются на стыке архетипических представлений и современных культурных трендов. Описанные кейсы зарубежных стран и российских регионов демонстрируют эффективность такого синтеза.
Перспективы развития территориального имиджа в культурологическом измерении связаны с углубленным изучением механизмов исторической памяти, культурного наследия и антропологии места. Особую актуальность приобретают исследования, направленные на выявление универсальных культурных архетипов территориального восприятия и их адаптацию к современным коммуникативным практикам. Как демонстрирует мировой опыт, наиболее успешные стратегии территориального позиционирования основываются не на внешних заимствованиях, а на глубоком понимании и творческой интерпретации собственного культурного кода.