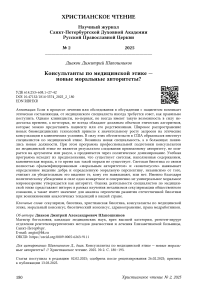Консультанты по медицинской этике — новые моральные авторитеты?
Автор: Диакон Димитрий Шапошников
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Практическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Если в процессе лечения или обследования в обсуждении с пациентом возникает этическая составляющая, от медицинского специалиста иногда требуется совет, как правильно поступить. Однако клиницисты, во‑первых, не всегда имеют такую возможность в силу недостатка времени, а во‑вторых, не всегда обладают должным объемом этических алгоритмов, которые можно предоставить пациенту или его родственникам. Широкое распространение новых биомедицинских технологий привело к значительному росту запросов на этические консультации в клинических условиях. В силу этих обстоятельств в США образовался институт специалистов по медицинской этике. Возникла новая специальность, а в больницах появились новые должности. При этом программа профессиональной подготовки консультантов по медицинской этике не является результатом следования признанному авторитету, не опирается на аргументы или разум, а продвигается через политическое доминирование. Учебная программа исходит из предположения, что существует светская, наполненная содержанием, каноническая мораль, в то время как такой морали не существует. Светская биоэтика со своим полностью сфальсифицированным «моральным авторитетом» и «консенсусом» навязывает определенное видение добра и определенную моральную перспективу, независимо от того, считают ли убедительным это видение те, кому его навязывают, или нет. Именно благодаря политическому убеждению и силе одно конкретное и совершенно не универсальное моральное мировоззрение утверждается как авторитет. Оценка деятельности специалистов по медицинской этике представляет интерес в рамках изучения механизмов секуляризации общественного сознания, а также имеет значение для анализа перспектив развития отечественной биоэтики при возникновении аналогичных тенденций в нашей стране.
Секуляризм, биоэтика, христианская биоэтика, консультанты по медицинской этике, моральный консенсус, биоэтический консенсус, здравоохранение, права медработников
Короткий адрес: https://sciup.org/140309609
IDR: 140309609 | УДК: 614.253+608.1+27-42 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_180
Текст научной статьи Консультанты по медицинской этике — новые моральные авторитеты?
Здравоохранение в последнее время изменилось и функционирует в рамках модели медицины, в которой врачи стали «поставщиками услуг», обязанными предлагать все легально доступные методы лечения по запросу пациента. Такая форма медицинской практики напоминает точку обслуживания: пациенты заказывают медицинские услуги в соответствии со своими собственными суждениями о том, как они хотят жить и о роли медицины в оказании им помощи в достижении цели. Если такие медицинские услуги, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), аборты, пластическая хирургия, обезболивание, эвтаназия и т. д., законны, то врачи обязаны предоставить запрашиваемую услугу или, по крайней мере, направить пациента к тому, кто это сделает. В рамках такой модели врачи воспринимаются как квалифицированные технические специалисты, которые, подобно сотрудникам ресторана быстрого питания, организуют и предоставляют любые услуги. Широкое распространение новых биомедицинских технологий не сопровождается какими-либо серьезными размышлениями о здоровье как объективном благе, в которых устанавливались бы четкие и твердые границы медицины, чтобы ими руководствовались врачи, медсестры и другие практикующие медицинские работники.
Как в наше время определить, какие биомедицинские решения являются морально правильными, а какие представляют собой серьезные ошибки? Ответы на этот вопрос будут отличаться в зависимости от того, кто на него отвечает. Для одного человека будет очевидно, что такие действия, как аборт, эвтаназия и значимые модификации тела, наносят ощутимый моральный вред личности либо как формы убийства, либо как отказ от ценности дарованного Богом тела. Для другого человека запрет на подобную деятельность будет считаться нарушением основных прав человека, если аборт, активная эвтаназия и модификации тела считаются им хорошими поступками и проявлениями прав личности.
Сегодня многие действия, которые когда-то считались и открыто признавались греховными, стали совершенно обыденными. Более того, теперь эти действия имеют мощную политическую и информационную поддержку, целью которой является утверждение желательности таких поступков и их признание в качестве очевидного блага для человека и общества. Признать такие действия греховными — значит вступить в конфликт с доминирующей светской культурой и отвергнуть то, что эта культура считает необходимыми условиями человеческой свободы (см.: [Cherry, 2023, 2]).
Современная светская биоэтика делает вид, что не в состоянии понять, что может быть плохого в таких действиях, если люди соглашаются на них добровольно, тем более что в некоторых случаях добровольное согласие пациента уже не является обязательным условием. Отчасти это непонимание объяснимо тем, что внутри светской идеологии и с использованием терминов, этой идеологии соответствующих, осознание ненормальности многого из того, что одобряет современное светское общество, невозможно. Для того чтобы в полной мере оценить серьезные моральные проблемы, существующие в современной биомедицине, необходимо мировоззрение, основанное на Евангелии, и жизнь, основанная на Божественной литургии.
Христиане всегда знали, что медицина допустима, и ее использование в целом поощряется, если она не сопровождается греховными действиями и не препятствует отношениям с Богом. Однако существование человеческих страстей часто приводит к заблуждениям и ошибкам при принятии медицинских решений. Зло стало настолько вездесущим и настолько банальным, что большинство людей его уже не замечает (см.: [Arendt, 1964, 118]).
Общественный моральный консенсус
Вопросы о роли, которая отводится религии в клинической работе, редко поднимаются в литературе, но всякий раз, когда это происходит, речь обязательно заходит о таком явлении, как «общественный моральный консенсус» или «биоэтический консенсус», который предписывает вести дискуссию без какого-либо использования религиозных смыслов и терминов. Общественный консенсус, моральный консенсус, а также биоэтический консенсус — это понятия, часто используемые в биоэтических дискуссиях. Без каких-либо оснований заявляется, что в обществе существует консенсус (т. е. единое нейтральное общепринятое мнение, не требующее обсуждения) относительно проблем биоэтики. Специалисты, стоящие на светских или антихристианских позициях, используют эти понятия для того, чтобы провозгласить авторитет собственного мнения. Помещаемая в контекст или оболочку «общественного консенсуса» точка зрения светского специалиста должна, по его мнению, автоматически получать статус беспристрастной позиции. При обсуждении биомедицинских технологий идеология «морального консенсуса» обязывает вести все обсуждения вопросов о жизни и смерти исключительно в безрелигиозных терминах. Провозглашается, что это нужно для того, чтобы обсуждение было понятно всем без исключения, так как большинство людей якобы придерживается секуляристских воззрений и убеждений и религиозная точка зрения не может быть ими воспринята без того, чтобы не возник конфликт. Светская же позиция в вопросах биоэтики, с точки зрения идеологов секуляризма, служит объединению, миру, гармонизации отношений и доносит до всех людей истинное понимание биоэтических проблем, помогая принимать правильные решения при возникновении этих проблем.
Это представление о консенсусе не является новым. Оно уходит корнями в саму историю биоэтики. Современная биоэтика выросла из схоластических представлений о том, что единая, каноническая мораль с определенным неизменным и бесконтекстным содержанием не только доступна с позиций традиционного христианства, но и поддается рациональному раскрытию. В частности, современная биоэтика выросла из ожидания, что рационально обоснованное представление о морали может обеспечить моральный дискурс, доступный всем (см.: [Engelhardt, 2017, 378]).
Наличие миллионов верующих людей, принимающих в своей жизни решения на основании религиозной веры, свидетельствует о том, что глобальный моральный, биоэтический, медицинский или любой другой консенсус — это фальсификация, используемая для пропаганды безрелигиозного мировоззрения в таких фундаментальных вопросах, как начало и конец человеческой жизни. Эта фальсификация препятствует честному диалогу между светскими и религиозными специалистами, принуждая последних во имя мнимой объективности переводить свои утверждения, принципы и смыслы на безрелигиозный язык. В повседневной клинической практике это может помешать верующему человеку сориентироваться, когда нужно принимать решения, определяющие всю дальнейшую судьбу. Использование в моральных и биоэтических дебатах утверждений о наличии глобального консенсуса является мощным пропагандистским инструментом, используемым для продвижения в биоэтике идеологии дехристианизации и дегуманизации человеческого общества.
Утверждается, например, что врачи ни в коем случае не должны вступать в религиозные или богословские дискуссии с пациентами по поводу принятия медицинских решений, даже если пациенты сами просят об этом (см., напр.: [Greenblum, Hubbard, 2019, 706]). В стремлении поставить клиническое пространство между врачом и пациентом на исключительно светский уровень нет ничего нового. Относительно новым этапом наступления на христианство в этом плане является ужесточение риторики светских специалистов и агрессивные попытки полного исключения религиозного мировоззрения из клинической практики на законодательном уровне, т. е. с использованием политического ресурса.
Как следует вести себя врачу, если пациенты или их родственники обращаются за советом относительно решения, имеющего морально-нравственные и этические последствия? Когда пациент спрашивает медицинского специалиста, как лучше поступить в ситуации, касающейся начала или окончания жизни, на специалиста ложится моральная (а иногда и юридическая) ответственность за принятие этого решения. Оставив в стороне клинические стандарты, остановимся исключительно на моральных аспектах. Например, в случае если прерывание беременности выполняется по медицинским показаниям и при невыполнении существует угроза жизни как плода, так и беременной женщины, это трагическая, но однозначная ситуация без возможности выбора. Если же при попытке ЭКО, когда о спасении чьей-либо жизни речи не идет, уничтожается несколько эмбрионов, то это ситуация с моральной точки зрения совершенно другая. Раньше, до столь интенсивного развития биомедицинских технологий, ориентироваться в подобных ситуациях медицинским специалистам помогала медицинская этика и деонтология. Однако скорость, с которой в последнее время в повседневную жизнь входят новые технологии, значительно превышает скорость реакции общества, с которой вырабатываются этические оценки и алгоритмы правильных решений.
Тем не менее в общественном пространстве появляются более или менее четко очерченные модели принятия решений по биоэтическим вопросам. Обращает на себя внимание отчетливый светский характер этих моделей. Новые биомедицинские технологии обычно представляются как прогрессивные, облегчающие жизнь и улучшающие здоровье. Моральный характер действий, связанных с этими биомедицинскими технологиями, или исключается из обсуждения, или же преподносится как минимум нейтрально, а чаще положительно. Моральная оценка новых биомедицинских технологий если и оказывается в общественном обсуждении, то выглядит так, будто является частью рекламной кампании по продвижению и легитимации этих самых технологий. Однако подобная напоминающая пропаганду деятельность не слишком эффективно влияет на сознание людей, которые несмотря ни на что остаются моральными личностями с присущей им нравственной интуицией, заставляющей анализировать этический аспект биомедицинских решений.
Консультанты по медицинской этике
Люди сомневаются и тревожатся за свое будущее и будущее своих детей, родственников и знакомых, когда в их жизни происходит встреча с новой биомедицинской технологией. Частота применения новых биомедицинских технологий и их распространенность привели к тому, что количество задаваемых пациентами моральных вопросов оказалось выше возможностей клиницистов находить время и профессиональные навыки для ведения подобных бесед.
Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда в медицинском учреждении врачи и медсестры полностью исключены из общения с пациентом на морально-этические темы, а сосредоточены исключительно на выполнении своих профессиональных обязанностей. Теперь представим, что все морально-этические вопросы решает отдельная внутрибольничная служба, представители которой приходят к пациентам и их родственникам при возникновении сложных вопросов, касающихся этики и морали. Представители этой службы «решают вопросы» морально-нравственного характера и объясняют пациентам и родственникам, какое именно решение в сложной ситуации является правильным. Такая ситуация выгодна клиникам. Если клиника реализует биомедицинскую технологию, которую руководство и персонал считают морально допустимой, они заинтересованы в том, чтобы у пациентов и их родственников также не возникало сомнений относительно допустимости процедуры с моральной точки зрения. Но при этом запрос на морально-этические консультации не исчезает, и кто-то должен их выполнять, причем так, чтобы пациент согласился на процедуру, будучи уверенным в том, что не совершает ничего плохого.
Подобный общественный запрос в США привел к зарождению специальной службы консультантов по медицинской этике, задача которых заключается в объяснении пациентам и их родственникам моральных аспектов, касающихся решений в области биоэтики. Делать или не делать ЭКО или аборт, отключать или нет аппаратуру жизнеобеспечения, соглашаться ли на операцию по пересадке органов с точки зрения донора или реципиента, начинать ли гормональную терапию в рамках подготовки к операции по «смене пола», осуществлять ли эвтаназию — для обсуждения всех этих вопросов Американское общество гуманитарных наук и биоэтики (ASBH) готовит особых специалистов: консультантов по медицинской этике (консультантов по этике в здравоохранении). Не исключено, что могут возникнуть и расширить влияние конкурирующие с ASBH организации, однако складывается впечатление, что на сегодняшний день в области «освоения» биоэтики и соответствующих бюджетов в США лидирует именно ASBH (как минимум по широте общественного обсуждения и по количеству связанных публикаций). В настоящей статье не ставится задача проанализировать весь западный «рынок биоэтических услуг», а деятельность ASBH анализируется как прецедент и заметный образец деятельности, способной привести к дальнейшей секуляризации и дехристианизации общественного сознания не только в США, но и во всем мире.
В последнее время ASBH активно выдвигает предложения и программы, направленные на сертификацию консультантов по вопросам медицинской этики. Фактически, создана новая медицинская специальность, а в больницах появилась новая должность. Стремясь стандартизировать требования, которым должен соответствовать консультант по медицинской этике, чтобы хорошо выполнять свою работу, ASBH выделила основные компетенции, которым должен соответствовать каждый легитимный консультант по медицинской этике. Также ASBH запустила программу сертификации «Healthcare Ethics Consultant-Certified (HEC–C)» («Сертифицированный консультант по этике в здравоохранении»), которая «подтверждает знания ключевых понятий в области этики здравоохранения и подтверждает опыт, компетентность и набор навыков» [ASBH HEC–C, 2024].
Существует две категории сертификации. Можно получить сертификат эксперта по определенным типам процедур (разрешение конфликтов, выявление источника разногласий между сторонами и т. д.) (см. подр.: [ASBH, 2024, 47–48]). Это значит, что можно стать экспертом в разрешении конфликтов, выполняя соответствующие процедуры, и при этом не брать на себя функцию эксперта в моральных вопросах.
Также можно пройти аттестацию как эксперт по моральным вопросам и получить сертификат об умении различать или определять морально правильное направление действий в ситуациях, сложных с моральной и медицинской точек зрения. Этот вид сертификации непосредственно связан с представлением о консультантах по медицинской этике как о моральных авторитетах. Однако ASBH заявляет, что не допускает в работе консультантов авторитарный подход, позволяющий рассматривать консультанта как главный моральный авторитет в клинической обстановке, потому что это было бы равносильно моральной гегемонии и, таким образом, узурпировало бы авторитет лиц, принимающих решения. Речь идет о том, что в медицинскую практику внедряется методика этического содействия, при котором консультант помогает прояснить проблемы, способствует эффективной коммуникации и объединяет точки зрения соответствующих заинтересованных сторон (см. подр.: [ASBH, 2017, 6–7]). Эти определения позволяют думать, что консультанты по медицинской этике — это специалисты с определенным набором практических процедур (например, разрешение конфликтов), а не моральные наставники или авторитеты.
Вроде бы, даже если программа сертификации ASBH способствует продвижению одного конкретного подхода в этическом консультировании, ее нельзя подозревать в том, что из консультантов по медицинской этике делают специалистов по моральному авторитету. Тем не менее причины для беспокойства существуют, поскольку есть большая разница между «лицом, принимающим моральные решения» и моральным авторитетом, который знает и рекомендует правильный образ действий в конкретной ситуации (см.: [Evans, Colgrove, 2022, 145]).
Отвергая на словах авторитарный подход, ASBH тем не менее не дистанцируется от представления о консультантах по медицинской этике как о моральных авторитетах. Консультант является моральным авторитетом, поскольку считается, что он знает, что правильно, а что нет, и его рекомендации направляют пациентов к этически обоснованным решениям, но при этом он не должен обладать полномочиями принимать решения. Как некий критерий непредвзятости преподносится то, что пациентам разрешается принимать решения, которые могут противоречить мудрым советам компетентного консультанта (т. е. с его точки зрения эти решения будут морально неправильными) (см. об этом: [Evans, Colgrove, 2022, 145]).
Какие варианты действий считаются «морально приемлемыми» для консультантов по медицинской этике, зависит от того, что одобрено «консенсусом». Сторонники биоэтического консенсуса озвучивают уже ставшее популярным мнение, что биоэтике удалось утвердиться в качестве полноценного канонического и светского морального авторитета в медицине. Консенсус, о котором идет речь, является светским, и считается, что на нем должны обосновываться экспертные утверждения консультанта. Если же консультант рекомендует действия, выходящие за рамки этого консенсуса, то считается, что он не смог дать рекомендации в соответствии с профессиональными стандартами (см.: [Malek, 2019, 94]).
Моральный авторитет консультанта по медицинской этике
При внимательном рассмотрении компетенций консультантов становится очевидно, что моральными авторитетами они все же считаются. Их рекомендации должны быть даны в диапазоне этически приемлемых вариантов (см. подр.: [ASBH, 2017, 8]). Для кого должны быть этически приемлемы эти варианты? Для пациента или его родственников? Определенно нет. Если бы главной задачей консультанта было составление рекомендаций, с которыми согласятся все лица, принимающие решения, то это означало бы достижение согласия между всеми вовлеченными сторонами. ASBH прямо отвергает этот подход, учитывая возможность того, что такое согласие даже среди этически адекватных лиц, принимающих решения, может выйти за рамки общепринятых этических и правовых норм и стандартов (см.: [ASBH, 2017, 7]). Таким образом, когда говорится, что рекомендации консультанта по медицинской этике должны быть сделаны в рамках диапазона «этически приемлемых вариантов», то, что называется «этически приемлемым», не определяется мировоззрением пациентов или их доверенных лиц. Оно определяется социальными нормами, поставщиками «медицинских услуг», а также преобладающими этическими и юридическими стандартами (см.: [ASBH, 2024, 9]). Консультант по медицинской этике должен быть экспертом, знающим, что это за стандарты и как их применять.
В некоторых случаях предложенное направление действий может быть неэтичным с точки зрения консультанта, и он должен рекомендовать его не выполнять. Кроме того, возможны случаи, когда с точки зрения консультанта только один из предложенных вариантов действий является этически оправданным, поэтому «консультанты должны объяснить, почему альтернативные действия не являются этически оправданными» [ASBH, 2024, 9].
Цель в том, чтобы служба консультантов по медицинской этике давала последовательные результаты, а личные взгляды консультанта не портили процесс, поскольку любые отклонения нежелательны. Таким образом, клиницисты и пациенты, получающие пользу от этой службы, могут рассчитывать на универсальный готовый этический продукт, как при промышленном изготовлении. Один из критиков этого подхода в этой связи задается вопросом: способен ли такую этическую консультацию выполнить искусственный интеллект? Такой биоэтический искусственный интеллект соответствовал бы идеалу светских специалистов, потому что он определял бы био-этический консенсус (каким бы он ни был) и никогда не отступал бы от светских биоэтических методов этического анализа (см.: [Kornu, 2022, 110]).
Действительно, чтобы выполнять свою работу, безрелигиозный консультант по медицинской этике даже не обязательно должен быть человеком. Не исключено, что спустя некоторое время можно будет увидеть попытки обучить выполнению этой функции искусственный интеллект (ИИ). ИИ как социокультурный феномен основан на картине мышления, которая в основе своей является светской (см. об этом: [Leung, 2019]). Поэтому осуществлять функции консультанта по биоэтике, который мыслит исключительно безрелигиозным способом, для компьютерного алгоритма не составит труда. Таким образом, мир, в котором решение о жизни и смерти человека принимает компьютерная программа, больше не ограничивается фантастическими сценариями, но при наличии вполне достижимых технических возможностей, а также определенной политической воли может стать реальностью.
Если безрелигиозная клиническая биоэтика должна реализовывать стандартную методологию консультаций по клинической этике, то почему бы искусственному интеллекту не запрограммировать основные компетенции контролирующих клиническую биоэтику организаций, биоэтические методологии и биоэтический консенсус?
Подобные разработки уже ведутся. Группа исследователей ИИ разработала систему MedEthEx, прототип советника по медицинской этике. Он пытается определить «правильный ход действий» в конкретных случаях. Разумеется, то, что оценивается как «правильный ход действий», основано на биоэтическом консенсусе и, следовательно, на общей морали, запрограммированной в машине (см. об этом: [Anderson et al., 2006]). Пока нет данных об использовании MedEthEx в клинических условиях.
Поскольку ИИ предполагает безжизненное мышление, исключающее особенности религии и возможность трансцендентности, то его деятельность осуществляется с ущербом для реального понимания человеческой жизни и с препятствием к подлинному человеческому взаимодействию. Человек может понять и почувствовать настроение другого человека, в т. ч. духовное, чего машины уловить не в состоянии. Более того, человек может понять, каким будет настроение другого человека в ближайшем и отдаленном будущем. Исключая религиозное мировоззрение, безрели-гиозная клиническая этика исключает посредничество представителя, если можно так выразиться, реальной, подлинной жизни, тем самым дегуманизируя консультанта по клинической этике до безжизненного машинного мыслителя, что приводит к метафизическому ограничению, граничащему с насилием.
Светская биоэтика видит угрозу своим позициям в том, что консультант, опирающийся на свое личное религиозное мировоззрение при формировании этических рекомендаций, может «навязать» пациенту свои собственные убеждения и ценности. А уважение к автономии требует, чтобы пациент (или его представитель) был наделен правом принимать решения на основе своего собственного мировоззрения без манипуляций и неправомерного влияния со стороны других людей. Однако решения пациента могут быть аналогичным образом сформированы аргументами и выводами, которые не являются религиозными, но в таком случае эти рассуждения почему-то не считаются в светской биоэтике навязыванием.
Светская биоэтика утверждает, что в отличие от предпочтений и обязательств, которые вырастают из религиозного мировоззрения человека, решения на основании биоэтического консенсуса вытекают из убеждений и ценностей, которые доступны всем людям независимо от их религиозной принадлежности (см.: [Malek, 2019, 96]). Получается, что биоэтический консенсус возможен, потому что светские убеждения и ценности доступны всем и могут устранить особенности религиозных убеждений, которые доступны не всем.
Исходя из этой логики, консультант, дающий рекомендации, основанные на светских рассуждениях, не навязывает свои убеждения или ценности мировоззрению пациента. Это было бы правдой, если бы светские рассуждения опирались на общую мораль, которую разделяют все без исключения. Но общая мораль — это миф, который светская биоэтика выдает за правду, чтобы сохранить видимость нейтральности. На самом деле т. н. общая мораль — это одна из концепций среди множества видов морали, и поэтому она не является общепринятой. При навязывании светских убеждений и ценностей религиозному пациенту нарушается та самая автономия, хранителями которой пытаются выглядеть идеологи светской биоэтики (см. об этом: [Colgrove, Evans, 2019]).
Диктатура светской морали
По безрелигиозным стандартам медицинской этики консультант не должен выходить за рамки светского мировоззрения, потому что в противном случае это затрагивает вопросы существования Бога и трансцендентной реальности, что влечет за собой «частные» религиозные убеждения, к обсуждению которых консультант не подготовлен (более того, по закону не должен быть подготовлен). Но разве именно такое взаимодействие требуется пациенту, когда он сталкивается с собственной смертностью перед лицом Бога? Отказываясь всерьез воспринимать трансцендентные метафизические утверждения религии и, соответственно, отказываясь взаимодействовать с пациентом на его религиозном уровне, консультант сознательно не допускает возможность понять пациента во всей его полноте. Светское регулирование дискурса медицинской этики заставляет пациента молчать о том, что находится в самом центре его личности и что определяет ее. Тем самым пациенту наносится вред. Нормативный секуляризм как единственно допустимый формат общения консультантов по медицинской этике лишает смысла само существование института медицинской этики, потому что на политическом уровне провозглашается режим «стандартной истины». Этот режим, по мнению идеологов секуляризма, должен регулировать религиозные высказывания и даже религиозное мышление пациента, в конечном итоге пропитывая собой все общение людей на грани жизни и смерти.
Консультант по медицинской этике может определять направление в вопросах морали, влиять на лиц, принимающих решения, и убеждать их делать тот или иной выбор (с абсолютно формальной оговоркой, что это убеждение не превращается в манипуляцию). Ключевым моментом является то, что это определение направлений в вопросах морали и влияние на лиц, принимающих решения, может быть каким угодно, только не религиозным. Этот тезис давно стал общим местом в деятельности светских специалистов по биоэтике. Например, в работе Д. Малек утверждается, что религиозные взгляды должны играть «незначительную роль или вообще ее не играть в ее консультационной работе» [Malek, 2019, 101]. Согласно этой точке зрения личные убеждения консультанта никогда не должны влиять на проводимый им этический анализ или разработку рекомендаций. Кроме того, религиозные мотивации не должны использоваться в общении во время бесед о принятии решений, кроме как для описания заявленной пациентом позиции. «Возможно, существуют ограниченные случаи, когда консультант по медицинской этике может поделиться своим духовным мировоззрением с пациентом с целью построения совместных отношений, но к таким ситуациям следует подходить с крайней осторожностью» [Malek, 2019, 92].
Консультанты по медицинской этике анализируют случаи, используя биоэтиче-ские методы и опираясь на биоэтический консенсус. Утверждается, что рекомендации консультанта должны соответствовать литературе по биоэтике, медицинской литературе и другой соответствующей научной литературе, текущим профессиональным и практическим стандартам в области медицинских этических консультаций, уставам, судебным заключениям и соответствующей институциональной политике (см. подр.: [ASBH, 2017, 6–7]).
Для тех, кто верит в существование светской, канонической, наполненной содержанием морали, убеждения православных христиан являются чем-то вроде ереси. Для тех, кто считает влияние христианской традиции подозрительным с моральной точки зрения или испытывает глубокий антагонизм к религиозной вере, перспектива того, что консультант по медицинской этике будет, например, выступать против абортов, кажется преступной (см.: [Evans, Colgrove, 2022, 153]).
Замечательный образец «консенсуса» демонстрирует нормативный документ, регламентирующий работу консультантов по медицинской этике, который не предусматривает участие христиан в консультировании случаев, связанных с репродуктивными технологиями. Занимаясь консультациями по этике, специалисты должны придерживаться «Кодекса этики и профессиональных обязанностей консультантов по этике в здравоохранении». Этот документ предписывает необходимость самоотвода в случае наличия у консультанта выраженных моральных возражений против искусственных репродуктивных технологий.
«Если в процессе работы консультанта возникает конфликт, связанный с его личными убеждениями или ценностями, консультант должен взять самоотвод от участия в деле после того, как найдет себе замену. Например, консультанты по медицинской этике, у которых есть выраженные моральные возражения против искусственных репродуктивных технологий, должны отказаться от участия в консультациях, связанных с искусственными репродуктивными технологиями, и не должны соглашаться на оказание консультаций по медицинской этике в условиях, где постоянно возникают вопросы, связанные с искусственными репродуктивными технологиями» [ASBH Code of Ethics, 2024].
«Религиозному мировоззрению консультанта по медицинской этике не место в разработке этических рекомендаций или общении о них с пациентами, лицами, их заменяющими, и врачами» [Malek, 2019, 92]. Если религиозное мировоззрение запрещено, то на что же должен опираться консультант по медицинской этике при разработке этических рекомендаций? Конечно, на биоэтический консенсус, т. е. на возникшее из ниоткуда и ни на чем не основанное утверждение, что людям легче всего договориться о моральных решениях в безрелигиозном смысловом пространстве.
Примечательно, что запрет на обозначение религиозного мировоззрения не распространяется на консультантов по медицинской этике, которые работают в учреждениях с явной религиозной идентификацией. В условиях, когда конкретная религиозная точка зрения формирует институциональную политику и обязательства отдельных «поставщиков услуг», консультант по медицинской этике обязан учитывать эту религиозную точку зрения при проведении анализа и выработке рекомендаций (см. подр.: [Bedford, 2011]).
«В тех областях, где нет биоэтического консенсуса, консультант должен использовать методику, позволяющую четко и систематически обдумать этическую проблему и получить независимый вывод, используя принятые моральные принципы. Именно эту уникальную точку зрения ищут люди, обращающиеся за консультацией по этике» [Malek, 2019, 92]. Идеологи светской биоэтики последовательно и методично игнорируют тот факт, что основанная на биоэтическом консенсусе точка зрения консультанта по медицинской этике точно так же является конкретной точкой зрения, которая формирует институциональную политику и обязательства, только эта точка зрения является антирелигиозной, а вовсе не нейтральной и общепринятой.
Интересно, что консультант, работающий в христианской больнице, обязан «учитывать» религиозные мотивы при принятии решений, а его коллега в светской больнице обязан их отвергать и игнорировать, поскольку «нет этического оправдания тому, что религиозное мировоззрение консультанта может повлиять на этический анализ или стать частью разговоров, которые происходят во время консультации» [Malek, 2019, 98].
Представим себе, что это один и тот же консультант, работающий по совместительству в двух учреждениях. Например, после дежурства в частном христианском хосписе он идет на смену в государственный светский хоспис. Это означает, что его высказывания о смысле жизни, понимаемом в контексте Евангелия, должны смениться на высказывания, основанные на биоэтическом консенсусе, отрицающем евангельское понимание жизни. Затем, собираясь на очередное дежурство в христианском учреждении, он снова должен вспомнить основы христианства и начать разговаривать «как верующий». Чтобы пройти через такую ситуацию без духовной травматизации, без метафизического повреждения, личность консультанта по медицинской этике должна быть сильно усеченной и ограниченной, близкой по состоянию к предметам неживой природы или к компьютерной программе.
Апологет безрелигиозной биоэтики Д. Малек в своей статье делает неловкую попытку выглядеть непредвзято. Описывая гипотетическую ситуацию критики, когда ей указывали бы на то, что от человека нельзя требовать, чтобы он давал этические рекомендации, которые противоречат его собственным религиозным убеждениям, поскольку это может вызвать у него моральные страдания и повлиять на целостность личности, она просто заявляет, что возражать нельзя. «Подробный и строгий ответ на эту критику выходит за рамки данной статьи. Возможно, будет достаточно отметить, что утверждения о совести просто нельзя использовать в качестве козыря, который прекращает дебаты» [Malek, 2019, 100].
Это замечательный пример «нейтрального и общепринятого» мышления в рамках «общественного морального консенсуса». Мы в России знаем (на примере собственных семей, а также по воспоминаниям и рассказам верующих, переживших советский период), что при определенных исторических условиях в дискуссиях со «светскими специалистами» такие рассуждения совсем не редкость, а финальным аргументом «общественного консенсуса» является расстрел. Так что встречать образцы аналогичного мышления в академической литературе совсем не удивительно.
Когда авторы, занимающиеся популяризацией секулярной биоэтики, предполагают, что консультанты по медицинской этике являются моральными авторитетами, то они, похоже, полагаются на презумпцию существования наполненной содержанием светской морали, которая служит для обоснования рекомендаций и моральной экспертизы консультантов. Считается, что эта мораль обязательна для всех, а значит, авторитетна для всех (см. об этом: [Malek, 2019; Beauchamp, Childress, 2019]). Но такой морали не существует.
Агрессивно навязываемый светский способ бытия совершает насилие над трансцендентностью религии и вредит способности понимать себя и пациента на живом, человеческом уровне. Если ASBH введет свою светскую сертификацию как единственно правильный способ понимания роли религии для консультантов по медицинской этике, то эта учебная программа станет «режимом истины», обязывающим консультантов заставлять пациентов следовать определенному светскому самопониманию (ср.: [Foucault, 2016, 84]). Безрелигиозный специалист по медицинской этике должен будет выполнять функцию светского арбитра, обеспечивающего т. н. нейтральную дискуссию. Сертифицированный консультант по медицинской этике будет обязан мыслить и действовать в терминах биоэтического консенсуса и общей морали светского нейтралитета.
Легитимизируя в общественной, политической и социальной сфере светские нормы, безрелигиозная биоэтика делает обязательным применение нормативного секуляризма в клинической практике. Под видом нейтральности, эффективности, последовательности и ясности людям в критическом состоянии предлагается встретиться с проявлением нормативного секуляризма. В определенных клинических ситуациях эта встреча будет последней в жизни. Два человека будут общаться на пороге одного из центральных событий жизни, сознательно исключая при этом из общения Бога, Который и есть Жизнь и Источник радости и утешения и в этой, и в будущей жизни.
Заключение
Медицинская и академическая биоэтика преподносит себя так, будто она опирается на устоявшиеся интеллектуальные основы, но на самом деле для обоснования своих выводов она ищет возможность использовать силу закона или профессионального стандарта, сертификации. Предполагается, что биоэтические предписания несут в себе силу морали, потому что сотрудники, работающие в этих областях, претендуют на звание «специалистов по этике» и используют терминологию, которая предполагает, что их рекомендации вытекают из самой морали (см.: [Evans, Colgrove, 2022, 149]).
Но сила закона совершенно не тождественна авторитету морали. Формулировки профессиональных стандартов тоже не обладают силой и авторитетом морали. При представлении о клинической этике и академической биоэтике, как если бы они исходили из интеллектуальных оснований, происходит подмена источника авторитета. Место авторитета морали занимает авторитет закона или профессионального стандарта, называющий себя, тем не менее, авторитетом морали.
Понимание моральной рациональности в секулярной культуре радикально отличается от такового в христианстве. Это констатировал еще ап. Павел в конце первой главы Послания к Римлянам: культура, которая поклоняется созданию, а не Создателю, всегда будет повреждена извращением. Одна из задач христианской биоэтики — свидетельствовать о том, что действия вопреки христианской морали и метафизическому пониманию жизни всегда подводят поддавшегося им к последней черте. Даже неверно направленное христианское поклонение Богу извращает моральное сознание, что уж говорить о сознании, отравленном пропагандой безрелигиозного общественного консенсуса. Задача христианской биоэтики в том, чтобы свидетельствовать о существовании способа сохранять совесть чистой и идти в верном направлении, несмотря на конкурирующие и сбивающие с толку моральные аргументы, которыми заполнена современная жизнь.
Широкое распределение по больницам США безрелигиозных консультантов по медицинской этике с государственными сертификатами укрепляет создание без-религиозной культуры медицинской этики, наносящей метафизический, духовный вред людям, сотворенным и предназначенным для вечной жизни.
Кодекс этики и профессиональных обязанностей консультантов по этике в здравоохранении, обязывающий консультанта брать самоотвод в случае понимания моральной недопустимости некоторых репродуктивных технологий, — не что иное, как обязательство следовать доминирующей секулярной биоэтике. Это документально зафиксированное предписание об обязательном устранении возможности христианского миропонимания в критических ситуациях, касающихся зарождения человеческой жизни. Уровень государственной поддержки таких предписаний может быть разным в зависимости от политических интересов, однако безапелляционность «рекомендаций» недвусмысленно свидетельствует о наличии в общественной биоэтике и здравоохранении антихристианского лобби.
Евангелие, вся церковная история и святоотеческая традиция учат нас не удивляться подобному отношению этого мира к учению Христа. В некоторой мере даже интересно наблюдать, как на наших глазах сбываются пророчества, в которых описаны явления, еще недавно казавшиеся чертами далекого будущего. Фиксация происходящих на Западе подобных политических сдвигов позволяет нам, чадам Русской Православной Церкви, объективно оценивать трагическое состояние западного общества, глубоко пораженного секулярным фундаментализмом, и применять эту оценку к самим себе. Ведь аналогичный сценарий совершенно не исключен и для нас, принимая во внимание скорость и масштабы копирования западных общественных, образовательных и информационных «трендов» людьми и организациями, отвечающими за формирование внутренней государственной политики в России. Не строя иллюзий, можно быть готовым к тому, что на фоне декларируемого лояльного отношения к Православной Церкви могут быть приняты нормативные документы в области медицинского этического консультирования, полностью исключающие возможность евангельского понимания вопросов биоэтики.
Однако будем надеяться, что этого не случится и нашествие консультантов по медицинской этике не вытеснит из наших больниц православных священников, уже много лет поддерживающих пациентов и их родственников в морально и этически тяжелых ситуациях. С другой стороны, о физическом вытеснении речь может и не идти, ведь в государственных американских клиниках есть и церкви, и часовни, и молельные комнаты, однако политическая и государственная поддержка внедрения светских консультантов по медицинской этике совершенно с этим не связана. При возникновении биоэтического вопроса клиницист будет обязан позвать не священника, а светского консультанта, который будет объяснять правильность того или иного решения с позиций морального авторитета.
Возможно, идеологи секулярного фундаментализма сами не видят недобросовестности и унижения образов мысли, не совпадающих с их собственным, в своих подходах к биоэтике. Они намеренно ссылаются на политический авторитет, чтобы обосновать свои утверждения. Возражать на утверждение о том, что морально авторитетного консенсуса светской биоэтики не существует в природе, они не считают нужным, поскольку политическая популярность их собственного мировоззрения принимается ими за моральную правоту. Те, кто считает, что религиозные люди должны быть изгнаны из медицинской этики и что медицина по своей сути является светским предприятием, находятся под давлением светских либеральных политических систем, и либо не понимают этого, либо сами формируют это давление.
Формирование института специалистов по медицинской этике, объясняющих пациентам моральный смысл новых биомедицинских процедур с безрелигиозных позиций, — характерная черта жизни современного человечества, которое заблудилось после отвержения подлинного морального авторитета — Триединого Бога, но тем не менее не утратило потребности искать моральный авторитет по зову души. Поскольку душа сотворена Богом, она естественным образом стремится к Нему, как к любящему Отцу, когда чувствует смущение или опасность. Но современное секуляризованное общество изо всех сил старается делать вид, что Бога не существует, и ставит на место морального авторитета различные суррогаты, к числу которых относятся и консультанты по медицинской этике.
Православные христиане не нуждаются в подобных заменителях и не воспринимают всерьез требование светской биоэтики и ее «общественного консенсуса» жить и общаться так, как если бы Бога не было. Светская биоэтика лишена подлинной свободы, возможной только во Христе, и лишает этой свободы человека, перед которым встает биоэтическая проблема. Светская биоэтика методично и осознанно борется с возможностями проявления христианского мировоззрения, но при этом провозглашает существование нравственной свободы.
Различия светской биоэтики и биоэтики православного христианства имеют духовные основания. Соответственно и последствия решений, принятых в рамках той и другой биоэтики, имеют духовное измерение. Православные христиане в ситуациях морального выбора обращаются к Божественной литургии и святоотеческой традиции. Так и в данном случае все, о чем говорилось выше, лучше и намного короче сформулировал свт. Нектарий Эгинский:
«Различать характерные черты истинной и ложной свободы настолько же необходимо, насколько значительна их разница между собой, так как это различие характерных черт ведет к различию в нравственном состоянии и этике, поведении, образе жизни, поступках и действиях. В общем, все формируется сообразно характерным чертам той и другой свободы: и мысли, и понятия, и суждения, и желания, и чувства. Все они либо, сообразно отличительным чертам истинной свободы, становятся действиями истинно свободного человека, свободными, независимыми и добрыми; либо же, сообразно со свободой ложной, становятся действиями несвободными, зависимыми и дурными. А поскольку благие дела согласуются с Божественным законом, с волей Божией, в то время как злые дела противны [Богу], из этого следует, что, с одной стороны, истинно свободные, творящие благо, приближаются к Богу, к величайшему благу, к величайшему предмету вожделений, к блаженству и счастью; с другой стороны, свободные ложно, творящие зло, удаляются от Бога, величайшего блага, величайшего предмета вожделений, блаженства и счастья, и потому становятся жалкими, ничтожными и несчастными. Более того, поскольку Бог есть свет, и жизнь, и истина, из этого следует, что далекие от Бога пребывают во тьме, в смерти и лжи, иначе говоря — во власти диавола, отца тьмы, смерти и лжи» [Нектарий Эгинский, 2023, 46–48].