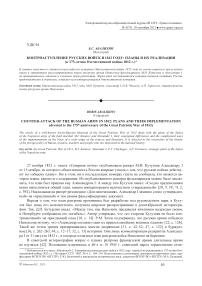Контрнаступление русских войск в 1812 году: планы и их реализация (к 175-летию Отечественной войны 1812 г.)
Автор: Абалихин Борис Сергеевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (75), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье известного советского-российского историка Отечественной войны 1812 года на основе широкого круга источников и литературы рассматриваются планы разгрома армии Наполеона фельдмаршала М.И. Кутузова и Александра I, их принципиальные отличия и сложные пути реализации. Адресуется исследователям истории внешней политики России, преподавателям и учителям, а также всем интересующимся Отечественной историей.
Отечественная война 1812 года, м.и. кутузов, александр i, п.в. чичагов, а.п. тормасов, стратегические планы разгрома армии наполеона
Короткий адрес: https://sciup.org/148322736
IDR: 148322736 | УДК: 94
Текст научной статьи Контрнаступление русских войск в 1812 году: планы и их реализация (к 175-летию Отечественной войны 1812 г.)
27 ноября 1812 г. газета «Северная почта» опубликовала рапорт М.И. Кутузова Александру I от 15 ноября, из которого общественность России впервые узнала о том, что русские войска действуют по «общему плану». Ни в этом, ни в последующих номерах газета не сообщила, кто является автором плана, каково его содержание. Из опубликованного рапорта фельдмаршала можно было заключить, что план был прислан ему Александром I. А между тем Кутузов писал: «Сходно предписаниям моим выполняется общий план, вашим императорским величеством утвержденный» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 392]. Накладывая на рапорт резолюцию «Для напечатания», Александр I заменил слово «утвержденный» на «присланный» и тем самым фальсифицировал документ.
Версия о том, что план разгрома противника был разработан под руководством царя, а Кутузов был лишь его исполнителем, получила широкое распространение в дооктябрьской историографии. Так, Д.П. Бутурлин писал: «Между тем, как Наполеон предавался кичливым надеждам своим, в Петербурге соображали его погибель». Автор утверждал, что «со стороны Кутузова не было контрзамечаний» на присланный план [10, с. 14]. Р.М. Зотов подчеркивал, что русская армия победила Наполеона потому, что «Александр составил один из превосходнейших военных планов» [22, с. 126]. Такой же точки зрения придерживались многие дворянские [31, с. 42–52; 47, с. 122] и буржуазные [36, с. 262–263; 44, с. 12–17; 32, с. 13] историки. Они лишь комментировали рескрипты Александра I от 31 августа 1812 г., в которых излагался план разгрома войск Наполеона на Березине.
В советской историографии вопрос о планах разгрома французской армии длительное время не изучался [42]. Положение изменилось в 40-х гг. В 1945 г. советский народ торжественно отме- тил 200-летие со дня рождения М.И. Кутузова. К юбилею были опубликованы важнейшие документы полководца, отражающие его военно-стратегический план периода Отечественной войны 1812 г. [35, 43] Принципиальное значение имела брошюра «Михаил Илларионович Кутузов», подготовленная Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В этой брошюре была дана высокая оценка искусству фельдмаршала: «Полководческое мастерство Кутузова – его стратегия и тактика – превзошло полководческое искусство Наполеона». Касаясь кутузовского плана разгрома французской армии, авторы подчеркнули, что он преследовал «решительные цели, стремясь к полному поражению врага» [30, c. 32]. Содержательные статьи о полководческой деятельности Кутузова в 1812 г. были опубликованы в журнале «Военная мысль» [13, 48].
Однако в целом в юбилейной литературе стратегический план Кутузова не был раскрыт. Авторы по-разному определяли район, в котором он намеревался нанести окончательное поражение главным силам Наполеона. Сославшись на предписание фельдмаршала генералу П.X. Витгенштейну от 1 ноября, А.М. Готовцев пришел к выводу, что это должно было произойти между Днепром, Березиной и Двиной [13, с. 60]. Многие же авторы считали, что Кутузов ставил задачу окружить и разгромить наполеоновскую армию на Березине, преувеличивали роль пространства и испытываемого неприятелем голода. В частности, Н.М. Коробков писал: Кутузов «знал, что голодная армия Наполеона, окруженная партизанами, на длительном пути из России погибнет вернее и полнее, чем в каком бы то ни было сражении, и он уже подготовил план ее окружения и окончательной гибели на Березине» [25, с. 48]. Широкое распространение в литературе получило утверждение о том, что Кутузов стремился «изгнать Наполеона» из России. В обзоре юбилейной литературы журнал «Военная мысль», однако, подчеркнул, что «это принципиально неверная характеристика стратегии Кутузова в войне 1812 г.» [11, с. 92].
В ответе военному историку Е.А. Разину И.В. Сталин определил действия русских войск на втором этапе Отечественной войны как контрнаступление: «...Наш гениальный полководец Кутузов загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления» [9, с. 92]. Этот тезис стал пропагандироваться в научно-популярных статьях [16, 27], предшествовавших появлению монографии П.А. Жилина – первой серьезной работы о подготовке и развитии контрнаступления русской армии в 1812 г. [18] Опираясь на разнообразные источники, П.А. Жилин подверг обоснованной критике концепции дворянских и буржуазных историков как русских, так и иностранных, в которых принижалась роль М.И. Кутузова в разгроме наполеоновского нашествия. Новые черты военного искусства фельдмаршала, подчеркнул автор, заключались как в самом плане контрнаступления русских войск на главные силы Наполеона, так и в способах его осуществления. Кутузов, отмечалось в монографии, предусматривал участие в разгроме наполеоновской армия «всех действующих армий и осуществление в ходе наступления такой сложной и решительной формы боевых действий, как окружение». В отличие от А.М. Готовцева, П.А. Жилин считал, что окончательное поражение врагу главнокомандующий решил нанести «на ближайших коммуникациях противника, по пути его отступления к Смоленску» [Там же, с. 286–287].
Крупный вклад в изучение истории Отечественной войны 1812 г. внес Л.Г. Бескровный, главное внимание уделивший контрнаступлению русской армии [8]. Автор первый установил, что во время следования в армию у Кутузова созрело решение «остановить армию Наполеона и не допустить ее к Москве». Новую трактовку получило и Бородинское сражение: оно давалось Кутузовым с целью положить конец успехам Наполеона и носило активно-оборонительный характер. Обстоятельно были рассмотрены Л.Г. Бескровным подготовка контрнаступления, «малая война», борьба за стратегическую инициативу, вопрос о параллельном преследовании противника. Уничтожение живой силы врага, заключал автор, являлось основной целью замыслов фельдмаршала.
В 50-х гг. вышел в свет фундаментальный сборник документов «М.И. Кутузов» [29], четвертый том которого посвящен деятельности полководца в период Отечественной войны 1812 г. Документы дают возможность осветить эволюцию стратегических замыслов главнокомандующего и их реализацию в ходе борьбы русской армии за стратегическую инициативу, преследования и полного разгрома войск Наполеона.
К 150-летию Отечественной войны и в последующие годы увидела свет многочисленная литература, отражающая как основные этапы борьбы с французским нашествием, так и полководческое искусство М.И. Кутузова [2]. Вопросы стратегии и тактики фельдмаршала наиболее полное отражение получили в последующих трудах Л.Г. Бескровного и П.А. Жилина [5; 7; 8; 17; 19; 20]. Названные авторы подробно рассмотрели кутузовский план контрнаступления, подвергли критике петербургский план, присланный Александром I, осветили ход и результаты контрнаступления русской армии.
Хотя советские ученые и проделали большую и плодотворную работу по анализу одной из сложных и важных проблем истории Отечественной войны 1812 г., ряд вопросов все еще нуждается в дополнительном освещении. Исследователи высказывают противоречивые суждения о том, в каком районе М.И. Кутузов первоначально намеревался окружить и разгромить главные силы Наполеона. Недостаточно четко определены принципиальные отличия кутузовского плана от петербургского, зачастую авторы смешивают их [8, с. 122; 23, с. 144; 24, с. 47–48; 41, с. 483], не показывают, как сочеталось их выполнение в ходе контрнаступления. Совершенно не нашел отражения и план адмирала П.В. Чичагова, выполнявшего волю Александра I. Попытку дать ответ на эти и некоторые другие вопросы и предпринимает автор данной статьи.
* * *
Под давлением общественного мнения Александр I рескриптом от 8 августа 1812 г. назначил М.И. Кутузова главнокомандующим «над всеми действующими армиями», размещенными на огромных пространствах страны. 1-я и 2-я Западные армии под командованием М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона после сдачи Смоленска отступали к Москве. Корпус генерала П.X. Витгенштейна и гарнизон Риги сдерживали натиск корпусов маршалов Ж-С. Макдональда, Ш.-Н. Удино и Л.-Г. Сен-Сира. На помощь Витгенштейну из Финляндии на судах Балтийского военно-морского флота перебрасывался корпус генерала Ф.Ф. Штейнгеля. 3-я Западная армия генерала А.П. Тормасова, ведя арьергардные бои с корпусами К. Шварценберга и Ж.-Л. Ренье и дивизией К. Косинского, отходила за р. Стырь. Корпус генерала Ф.В. Остен-Сакена находился в районе Житомира и служил резервом 3-й армии. 2-й резервный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля, располагаясь в Мозыре, прикрывал Киевскую и отчасти Черниговскую губернии от действий наполеоновских войск, расположенных в Южной Белоруссии. Высвободившаяся после ратификации Бухарестского мира Дунайская (Молдавская) армия П.В. Чичагова перемещалась из Валахии на Волынь. Сюда же из Крыма следовала 13-я дивизия генерал-лейтенанта Э.И. Ришелье.
Не получив в Военном министерстве и на аудиенции у царя удовлетворительного ответа на свой запрос о резервах, Кутузов решил привлечь к борьбе против главных сил Наполеона войска левофланговой группировки. В свою очередь, корпусу Витгенштейна было предписано продолжать прикрывать петербургское направление [29, Т. IV, Ч. I, с. 81]. Задачи 3-й и Дунайской армиям в общем виде были определены в письмах Тормасову и Чичагову от 14 августа. «Все то, что мы имеем, кроме 1-й и 2-й армий, – указывал Кутузов, – должно бы действовать на правый фланг неприятеля, дабы тем единственно остановить его стремление» [29, Т. IV, Ч. I, с. 83–84].
Главнокомандующий уже по дороге в армию вынашивал, следовательно, план концентрического наступления всех русских армий на основные силы Наполеона.
Кутузов настойчиво рекомендовал «не думать об отдаленных диверсиях», отменив предписание Тормасову и Чичагову «действовать в тыл неприятелю», данное 11 августа М.Б. Барклаем-де-Толли от имени Александра I [14, с. 26].
В письме А.П. Тормасову от 20 августа М.И. Кутузов, сообщив о намерении дать «генеральное сражение у Можайска», поручил ему, «собрав к себе все силы генерал-лейтенанта Эртеля при Мозыре и генерал-лейтенанта Сакена при Житомире, итти с ними вместе» с 3-й армией, «действовать на правый фланг неприятеля» [29, Т. IV, Ч. I, с. 112]. Оборону украинских губерний главнокомандующий возлагал на П.В. Чичагова. «Я полагаю армию вашу, перешедшую уже Днестр, – писал он в тот же день адмиралу, – а потому все то, что занимало попечение генерала Тормасова, может войти в предмет ваш» [29, Т. IV, Ч. I, с. 113].
Как и в первых посланиях, в письмах от 20 августа Кутузов не указал маршрут движения и конкретный район действий 3-й армии. Все это должен был определить сам Тормасов: «С сим нарочным буду я ожидать уведомления вашего... о тех мерах, которые вы посему предпринять изволите, равно о пунктах ваших операций и сведения о состоянии ваших сил» [29, Т. IV, Ч. I, с. 112]. Это в высшей степени интересная фраза.
Во-первых, она отражает важность момента: до Бородинского сражения оставались считанные дни, и Кутузов решал вопрос, сможет ли он остановить противника и перейти в наступление. Это зависело во многом и от активности 3-й армии. Во-вторых, главнокомандующий предоставлял Тормасову большую самостоятельность.
Тормасов получил распоряжение Кутузова 30 августа, когда его армия находилась уже за Сты-рью, а войска Чичагова – в Каменец-Подольском, т. е. в четырех переходах от 3-й армии. Одобрительно отозвавшись о решении Кутузова поручить оборону украинских губерний Дунайской армии. Тормасов в тот же день информировал его: «...Как скоро... г-н адмирал Чичагов с войсками прибудет, то по соображению с ним местных обстоятельств предполагаю я обратиться через Мозырь, Бобруйск к Мстиславлю, держа сколь можно параллельное направление с дорогою, от Минска через Оршу к Смоленску идущую» [45, ф. ВУА, 1812 г., д. 3508, л. 24]. Выбранная дорога была очень удобной: двигаясь по ней, 3-я армия прикрывала бы Киевскую и Черниговскую губернии и присоединила корпуса Остен-Сакена и Эртеля.
В письме от 31 августа Чичагов сообщил Кутузову, что к 10 сентября его армия сосредоточится в районе Дубно. Что касается предложений главнокомандующего, то на них ответил весьма туманно: «Учредив с ним (Тормасовым. – Б. А .) сообщения, сколь найду сие возможным по дальнему расстоянию мест, которые армии наши занимать будут, я стану стараться исполнить все то, что к пользе общей служить может» [45, ф. 14414 (Главный штаб 1-й Западной армии) 1812 г., оп. 11 а, св. 281, д. 8, ч. 3, л. 7 и об.].
Ответ Чичагова Кутузову и дальнейшее поведение адмирала будут непонятны, если не осветить, хотя бы кратко, его взаимоотношения с Александром I. Чичагов пользовался покровительством царя. Назначая его в апреле 1812 г. вместо Кутузова главнокомандующим Дунайской армией, а также начальником Черноморского военно-морского флота и верховным правителем Валахии и Молдавии, Александр I в именном рескрипте предоставил ему право быть независимым «от всякой иной власти, кроме монаршей» [26]. Этим правом Чичагов широко пользовался. Он игнорировал распоряжения военного министра Барклая-де-Толли, а затем Кутузова.
Александр I определил и боевое назначение Дунайской армии. В письме от 18 июля он предписал Чичагову следовать в Дубно, где обещал присоединить к его войскам 3-ю армию. «Вы будете в состоянии перейти в наступление и действовать на Пинск или Люблин и Варшаву» [12, с. 89–90], подчеркивал царь. Сам адмирал был склонен вести операции в Варшавском герцогстве, о чем неоднократно сообщал подчиненным генералам и Тормасову [3, ф. Канцелярия, 1812 г., д. 2100, л. 1; д. 2107, л. 1 и об.; 45, ф. 103 (ф. М.Б. Барклая-де-Толли), 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 10, л. 341–342].
Чичагов настаивал, чтобы Александр I быстрее подчинил ему 3-ю армию. «Если мне суждено командовать армией генерала Тормасова, – писал он 18 июля, – то умоляю Ваше величество дать повеление Ваше немедленно». «Надеюсь, – подчеркивал адмирал в послании от 18 августа, – что до соединения я уже буду знать, кто из нас двоих будет командовать – генерал Тормасов или я» [34, с. 145; 14, с. 15].
Итак, задолго до прибытия Дунайской армии на Волынь Александр I решил такие важные вопросы, как объединение 3-й и Дунайской армий, смещение Тормасова с поста командующего 3-й армией и назначение Чичагова главнокомандующим всеми вооруженными силами на Юго-Западе России. Александр I предоставил Чичагову широкие полномочия по ведению боевых действий. О своих решениях царь никого не информировал. Поздравляя 13 июля Тормасова по случаю ратификации Бухарестского мира, Барклай-де-Толли выразил уверенность, что «император отделит из Молдавии войска для усиления» 3-й армии [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 13, л. 338 и об.]. Такого же мнения был и Тормасов. Он дважды обращался к Чичагову с просьбой «подкрепить» его отступавшие войска. Надеясь на поддержку, Тормасов послал нарочного к командиру авангардного корпуса генералу А.Л. Воинову с просьбой ускорить марш. Чичагов усмотрел в этом посягательства на свои права. «Я принужденным нахожусь сообщить, – писал он 18 августа Тормасову, – что, получая повеления собственно от его императорского величества, я ни в одном из них не находил ничего относительно до разделения армии, под начальством моим находящейся» [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 10, л. 341–342]. В ответ на предписание Барклая-де-Толли «двинуть часть войск на помощь Тормасову» [45, ф. ВУА, 1812 г., д. 3502, л. 120; 3, с. 167–168]. Чичагов дал понять, что подчиняется только царю который приказал вести операции лишь в Польше. Мотивируя свой отказ, он писал: «Отделив же от армии еще некоторую часть, я буду не в состоянии действовать по данным мне высочайшим повелениям» [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 10, л. 354].
Как видно из писем Кутузова Чичагову, главнокомандующий также не знал о планах царя в отношении Дунайской армии. Очевидно, Чичагов не сразу сориентировался, как вести себя с Кутузовым. Сослаться на «высочайшие повеления» он не рискнул, а потому и дал 31 августа ему такой уклончивый ответ.
В Бородинском сражении русские войска, проявив невиданные стойкость и мужество, обескровили армию Наполеона, подорвали ее моральный дух. Отсутствие резервов не позволило Кутузову дать новое сражение. Русская армия была вынуждена оставить Москву. Но сразу же после Бородинской битвы у Кутузова созрел план разгрома врага, план, который, как говорилось в листовке Главного штаба, «никакие соображения не могли ни ослабить, ни изменить» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 440]. Для реализации своих замыслов фельдмаршал снова намеревался привлечь войска левофланговой группировки. Совершая Тарутинский марш-маневр, Кутузов решал многие задачи, в том числе стремился сохранить, как он писал 4 сентября Александру I, «связь с армиями Тормасова и Чичагова» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 233–234].
Конкретные боевые задачи на новом этапе войны Кутузов поставил Чичагову и Тормасову в письмах от 6 сентября. Сообщив о сдаче Москвы и создании новой операционной линии «по дорогам Тульской и Калужской к Смоленской», фельдмаршал просил адмирала, «соединясь с войсками генерал-лейтенанта Эртеля, итти сколь возможно будет кратчайшими и удобнейшими путями к Могилеву на Смоленскую дорогу и далее к помянутой линии как для сближения с здешними армиями, так и для угрожения неприятельского тыла и пресечения всякого сообщения его». Кроме корпуса Эр-теля, Кутузов рекомендовал Чичагову взять с собой 13-ю дивизию и четыре украинских казачьих полка [29, Т. IV, Ч. 1, с. 244].
Выразив уверенность в том, что 3-я армия уже соединилась с армией Чичагова и ведет «успешные действия противу неприятеля», Кутузов предписал Тормасову: «Оставив при себе генерал-лейтенанта Сакена с его корпусом, пребывать в Больший и Подолии для охранения того края, наипаче Киева, от покушений неприятельских». Кроме того, 3-я армия должна была обеспечивать тыл войск Чичагова во время их движения на Могилев [29, Т. IV, Ч. 1, с. 244–245].
Письма Кутузова от 6 сентября содержали основные положения его посланий Тормасову и Чичагову от 14 и 20 августа. Вместе с тем в них был сделан ряд важных уточнений и дополнений.
Во-первых, фельдмаршал по-новому произвел распределение войск левофланговой группировки. Если раньше он намеревался переместить на московское направление 3-ю армию, то теперь – Дунайскую. Кутузов не объяснял, почему он пересмотрел свое первоначальное решение. Но можно предположить, что это изменение было вызвано тем, что, зная высокие боевые качества Дунайской армии, он решил привлечь ее для достижения главнейшей цели, а 3-ю армию, как успешно справлявшуюся с задачей обороны Украины, оставить на прежнем участке театра войны. Не исключено, что Кутузов намеревался ограничить действия Чичагова, который, пользуясь покровительством царя, проявлял стремление к проведению самостоятельных операций. Вместо корпуса Остен-Сакена теперь Дунайской армии придавались 13-я дивизия и четыре казачьих полка. Такое перераспределение войск отвечало реально сложившейся обстановке на левом крыле (в это время 13-я дивизия уже присоединилась к Дунайской армии и завершилось формирование украинских полков) и более соответствовало выполнению задач, поставленных перед войсками Чичагова.
Во-вторых, четче, чем прежде, определялись район действия и задачи Дунайской армии. Если в письмах от 14 и 20 августа об этом говорилось весьма приблизительно, то теперь Кутузов предписывал Чичагову овладеть Могилевом на Днепре, выйти на Смоленскую дорогу и двигаться по ней к операционной линии Главной армии. Отсюда следует, что Дунайская армия должна была разгромить ближайший тыл Наполеона, перерезать его важнейшую коммуникацию, не допустить подхода подкреплений в Москву, а затем, соединившись с Главной армией, принять участие в окружении и разгроме основных сил врага восточнее Днепра. Как и раньше, Кутузов намеревался соединить Дунайскую армию с Главной. Свое послание Чичагову фельдмаршал закончил такими словами: «…В ожидании столь полезного вашего со мной соединения имею честь быть...». Желая, видимо, ускорить выступление Дунайской армии на главную коммуникацию Наполеона, Кутузов писал Чичагову, что «завтра», т. е. 7 сентября, начнет «действия противу неприятеля».
План Кутузова имел реальное основание. У Наполеона в Москве было 110 тыс. войск. Его коммуникации охраняли в то время небольшие гарнизоны: в Могилеве находилось не более 2 тыс. солдат, в Витебске – 400, под Бобруйском – 11–15 тыс., в Смоленске – 3–4 тыс. человек [29, Т. IV, Ч. 1, с. 414–415]. 75-тысячной армии Чичагова, располагавшей 216 орудиями, не представляло особого труда разгромить их и форсировать Днепр. По данным рапорта Кутузова Александру I от 23 сентября, Главная армия насчитывала более 90 тыс. человек и 612 орудий [29, Т. IV, Ч. 1, с. 355–358, 361]. В распоряжении фельдмаршала находились ополчения первого округа, включавшие не менее 125 тыс. ратников. В этом районе действовали многочисленные войсковые и крестьянские партизанские отряды.
Таким образом, Кутузов предполагал создать по отношению к врагу почти тройное превосходство в силах. Его план, как и прежде, предусматривал концентрическое наступление русских войск и разгром основной группировки Наполеона до подхода резервов. Участники войны высоко оценили этот замысел. Генерал А.Ф. Ланжерон, командовавший в 1812 г. корпусом Дунайской армии, писал: «Все было так хорошо рассчитано, что если бы адмирал точно исполнил все приказания, которые он получил, то не потерял бы 25 дней в Бресте, добрался бы до Днепра раньше Наполеона, перерезал бы ему путь отступления, что привело бы его к неминуемой гибели» [21, с. 93].
Замысел Кутузова был сорван Александром I. 8 сентября в Красную Пахру, где размещался Главный штаб, приехал флигель-адъютант царя полковник А.И. Чернышев, доставивший рескрипты императора от 31 августа на имя Кутузова, Витгенштейна, Чичагова и Штейнгеля. В них и излагался оперативный план на второй этап войны. Александр I лицемерно предоставлял Кутузову право принять или отвергнуть его. В то же время он дал задание своему адъютанту убедить Кутузова принять план, чего Чернышев упорно добивался два дня. Без согласования с фельдмаршалом царь рескриптом от 1 сентября отстранил Тормасова от командования 3-й армией и приказал объединить ее с Дунайской. Главнокомандующим объединенными армиями он назначил Чичагова, которого считал «способнее» Тормасова «по решимости характера». Александр I предписал Кутузову отозвать Тормасова в свой штаб и «вверить ему резерв» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 224].
План, присланный из Петербурга, предполагал действия, противоположные тем, которые намечал Кутузов и о которых Александр I был прекрасно осведомлен. Прежде всего в плане неверно оценивалась военно-стратегическая обстановка на театре войны. Его составители исходили из того, что русская армия, как писал царь Кутузову, «преградив успехи неприятеля, удержит и дальнейшее его вторжение», а затем приступит «к наступательным действиям» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 194]. В действительности, русская армия, сдав Москву, отступала. В плане неверно определялось и направление главного удара. Если Кутузов планировал нанести его по основным силам Наполеона, то петербургский план преследовал цель разгромить фланговые группировки противника встречным наступлением войск Витгенштейна и Штейнгеля с севера и Дунайской армии – с юга. Решающая роль в разгроме врага отводилась не Главной армии, а Дунайской. На словах Александр I ратовал за объединение действий всех армий и корпусов, а на деле его рескрипты предусматривали действия фланговых войск вне связи с Главной армией. Совместные действия предполагались лишь на заключительном этапе операции. Если Кутузов намечал произвести окружение армии Наполеона восточнее Днепра, то петербургский план предусматривал решение этой задачи на Березине. В рескрипте Чичагову царь предписывал занять «реку Березину и Борисов, где должно укрепить сильный лагерь и далее лес и дефилеи по дороге от Борисова до Бобра» с тем, «чтобы на возвратном пути главной неприятельской армии, преследуемой нашими войсками, тут на каждом шагу могло быть производимо сильное сопротивление...» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 464–465]. Следовательно, пространство и время уступались противнику без борьбы.
В петербургском плане скрупулезно регламентировались действия войск: в нем указывались маршруты движения, даты освобождения тех или иных городов и т. п. Так, Дунайская армия не позднее 20 сентября должна была овладеть Пинском, 26 сентября – Несвижем, 4 октября – Минском. Здесь к ней должен был присоединиться корпус Эртеля. До 10 октября войска Чичагова должны были укрепиться на Березине и наладить взаимодействие с корпусом Витгенштейна. Сопротивление противника, погодные условия и другие факторы совершенно не учитывались.
Задачи 3-й армии определялись в рескрипте Александра I «В бывшую армию генерала Тормасова». Ей предписывалось «быть от 20 до 25 сентября в Пружанах, тем отвлекая неприятеля как можно далее от Пинска и Несвижа», а с 26 сентября начать «наступательные движения» с целью разбить корпуса Шварценберга и Ренье и оттеснить их в герцогство Варшавское или Галицию. В рескрипте подчеркивалось, что главная задача 3-й армии – «сокрыть движения адмирала Чичагова» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 465–466].
Таким образом, между кутузовским и петербургским планами имелись принципиальные отличия. Главное заключалось в том, что Кутузов стремился сосредоточить усилия русских войск на уничтожении основных сил Наполеона восточнее Днепра до подхода к ним резервов. Даже в случае неудачи в выполнении этой задачи у русского командования было бы достаточно войск, пространства и времени, чтобы не допустить соединения наполеоновской армии с резервами и корпусами, действовавшими на петербургском направлении.
Уже при первом знакомстве с рескриптами царя 8 сентября Кутузов, по словам Чернышева, заявил, что «к сожалению, 6-го числа сего месяца было от него послано предписание генералу Чичагову... следовать с Молдавскою армиею через Мозырь, Рогачев на Могилев для сближения с большими действующими армиями и угрожения неприятеля в тыл» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 265]. Из этого заявления следует, что Кутузов выразил сожаление о том, что петербургский план запоздал и что он уже отдал необходимые распоряжения. Именно так и понял мысль фельдмаршала Чернышев. Он стал с жаром убеждать его в превосходстве привезенного им плана, делая упор на то, что русские войска, действующие на флангах, выйдут на основную коммуникацию противника «по пунктам, назначенным» Александром I.
Доводы Чернышева не убедили Кутузова, но настойчивость адъютанта царя показала, что вопрос о петербургском плане предрешен. И все же фельдмаршал предпринял еще одну попытку отстоять свой план. Он заявил, что «не хочет без совета генерала Беннигсена решиться» принять новый план и приказал Чернышеву подготовить «подробный экстракт на французском языке содержанию всех бумаг», привезенных им. Взаимоотношения Кутузова и Л.Л. Беннигсена хорошо известны. Что же заставило фельдмаршала апеллировать к своему недругу? Источники на этот счет не содержат никаких данных. Поэтому можно лишь предположить, что Кутузов рассчитывал на то, что Беннигсен заметит явные просчеты петербургского плана.
Надежды фельдмаршала не оправдались. Ознакомившись с «экстрактом», Беннигсен одобрил петербургский план. Вот как Чернышев описывает этот важный момент: «Так как по прочтению сей бумаги (экстракта. – Б. А.) генерал Беннигсен был во всем мнением своим согласен с начертанным планом, то князь и решился произвесть его в действие без всякой перемены...» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 266].
Из Красной Пахры Чернышев выехал в Дунайскую армию лишь 10 сентября. Кроме того, несколько дней он потерял в поисках штаба Кутузова. Поэтому к числам, указанным в петербургском плане, фельдмаршал прибавил по пять суток. «Князь сказал мне при том, – пишет Чернышев, – что он желает, чтобы командующие армиями не очень стеснялись бы выставленными числами» [37, с. 266–267]. Следовательно, по новому расписанию войска Чичагова должны были овладеть Минском 10 октября, а 15-го – выйти на берега Березины. Соответствующим образом были изменены даты и в остальных рескриптах.
-
10 сентября Кутузов предписал Чичагову воздержаться «от производства в действо» его распоряжений от 6 сентября и приступить «к исполнению высочайшей воли». Но фельдмаршал подчеркнул, что действия Дунайской армии должны быть направлены «к общей цели». Он ни словом не обмолвился об объединении 3-й и Дунайской армий, не отзывал Тормасова, а лишь поручил Чичагову «препроводить еще повеление государя императора в бывшую армию генерала Тормасова» и указал, что Чернышев снабжен «многими изустными наставлениями» императора. Тем самым Кутузов возложил на адъютанта царя неблаговидную миссию отстранения Тормасова от армии [Там же, с. 269].
В тот же день Кутузов донес Александру I о своем «опробировании» плана и отметил, правда, в завуалированной форме, основной его недостаток: «Сказать должно, что отдаленные диверсии от главного действия войны не могут иметь над нею такого влияния, как ближние...» Фельдмаршал настаивал на том, чтобы Чичагов как можно быстрее вышел на операционную линию Наполеона либо для сближения с корпусом Витгенштейна, либо «сколь можно скорее приближиться к окрестностям Могилева». «Сим, – подчеркивал Кутузов, – заботливее сделается положение главных неприятельских сил и тем скорее вынужденным он будет оставить сердце России» [Там же, с. 268].
Рассмотрим план контрнаступления, разработанный штабом 3-й армии. Первое упоминание о нем содержится в письме Чичагова Тормасову от 24 августа. Сообщив о подходе своей армии к Днестру, адмирал писал: «Я полагаю, что нам очень возможно будет переменить действия наши из оборонительных в наступательные. Я вас покорно прошу заняться предварительно по знанию вашему тех мест планом, коего держаться можно было» [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 13, л. 347]. Тормасов дал согласие. Но 28 августа он получил письмо Кутузова от 14 августа, которое, по его словам, вносило «некоторую перемену в общих предположениях». Тормасов известил об этом Чичагова и предложил ему или начальнику штаба приехать в Луцк для согласования совместных действий. Чичагов, получивший послание Кутузова вместе с письмом Тормасова 30 августа, в тот же день писал Тормасову: «Находя весьма полезным предназначаемое с вами свидание, я завтра отправляюсь из Каменца в Дубно и оттуда в Луцк ... и мы объяснимся с вами по предмету перемены в общих предположениях» [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 13, л. 356–357].
Тормасов оказался в сложном положении: с одной стороны, он располагал предписанием Кутузова не проводить «отдаленных диверсий» и уже дал согласие выступить на соединение с Главной армией, с другой – Чичагов уверял его, что имеет «повеление» царя действовать «совокупными силами в герцогстве Варшавском» [46, ф. 1409 (ф. Собственная е. и. в. канцелярия), оп. 1, 1812 г., д. 649, л . 5]. Тормасов принял предложение Чичагова. 3 сентября он направил адмиралу план под названием «Мнение для наступательных движений двух действующих армий противу соединенных неприятельских сил, за рекою Стыром расположенных».
Учитывая, что наполеоновские войска на Волыни были сосредоточены в трех пунктах (саксонский корпус – у м. Киселина, австрийский – у с. Колобы, польская дивизия – у г. Владимира), план предусматривал наступление в этих направлениях. Главной задачей являлось не уничтожение живой силы противника, а изгнание захватчиков из Волыни. «Какое бы неприятель не предпринял отступление, – говорилось в плане, – обе армии будут против него соединено действовать, чтобы вытеснить его из Волыни» [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 13, л. 360].
-
3 сентября, после отправки плана Чичагову, Тормасов получил предписание Кутузова от 20 августа. Он немедленно известил об этом адмирала и просил сообщить, получил ли тот ука-
зания главнокомандующего «относительно губерний Подольской, Волынской и области Тарнопольской» [45, ф. 103, 1812 г., оп. 208а, св. 0, д. 13, л. 361]. Этот запрос косвенно свидетельствует о согласии Тормасова выполнить распоряжение Кутузова. Но Чичагову снова удалось убедить Тормасова, как он писал Беннигсену, «атаковать неприятеля одновременно, если он заблагорассудит обождать нас; если же отступит, то будем его преследовать» [4, с. 129].
Таким образом, вопреки директивам Кутузова и до получения петербургского плана выполнявший волю царя Чичагов, а вместе с ним и Тормасов решили действовать по своему плану. Для проведения наступательных операций они выделили 55 тыс. солдат и офицеров. Остальные войска обеспечивали безопасность Юго-Западного края. Дунайская армия форсировала Стырь 10-го, а 3-я армия – 11 сентября. Противник без боя отступил.
-
12 сентября Тормасов и Чичагов получили письма Кутузова от 6 сентября. На другой день командующие встретились в Торчине, где обсудили план дальнейших действий. Было решено продолжать наступление. 14 сентября адмирал писал фельдмаршалу: «Мы согласились с г. Тормасовым преследовать его (противника. – Б. А.) по направлению к Ковелю, куда он, кажется, стремится. Потом, собрав как прежде бывшие под начальством моим, так и вновь назначенные войска, я пойду кратчайшим путем на Могилев». Соглашаясь выполнить предписание Кутузова, Чичагов просил прислать «точное подтверждение, продолжать ли преследование» противника «или, оставя его, идти, не взирая ни на что, к Могилеву» [38, с. 47]. Совершенно очевидно, что адмирал пытался оттянуть срок своего выступления на соединение с Главной армией. Видимо, он ожидал решения Александра I об объединении 3-й и Дунайской армий. 17 сентября в штаб Чичагова прибыл Чернышев с рескриптами царя и новым предписанием Кутузова. Ознакомившись с петербургским планом, адмирал нашел его «обширным и важным». Он лишь посетовал на чрезмерную регламентацию действий вверенных ему войск [40, с. 32]. По словам Чернышева, Тормасов «весьма огорчился своим перемещением» [38, с. 272]. На очередном военном совете было решено, что Тормасов будет командовать армией до полного освобождения Волынской губернии.
Выполняя приказ Наполеона «сковать русские войска и ни под каким видом не допустить, чтобы они вышли на коммуникацию» французской армии [49, 50], Шварценберг и Ренье отступили за Буг. 30 сентября русские армии освободили Брест. 1 октября Чичагов доложил Кутузову о вступлении в командование объединенными войсками, за которыми сохранялось название 3-й Западной армии. Тормасов выехал в Главный штаб.
В районе Бреста 3-я армия находилась две недели. Чичагов рассчитывал разбить австро-польско-саксонские войска и вторгнуться в герцогство Варшавское. «Цель моих действий, – доносил он 3 октября Александру I – будет отчасти достигнута отступлением неприятеля в герцогство» [33, с. 323]. На польской территории вели военные действия пять войсковых партизанских отрядов. Их успехи породили, видимо, у адмирала иллюзии о легкой победе. 5 октября он направил в герцогство 10-тысячный корпус генерала П.К. Эссена и предписал генералу Ланжерону готовиться к походу. 6 октября войска Эссена были атакованы под Бялой превосходящими силами врага. Потеряв 126 человек убитыми и 209 ранеными, Эссен отступил [45, ф. ВУА, 1812 г., д. 3518, ч. I, л. 232, 234]. Осечка под Бялой охладила наступательный пыл адмирала. Он отозвал все отряды под Брест. Задержка 3-й армии была на руку Наполеону.
О своих планах и действиях Чичагов Кутузова не информировал. Но фельдмаршал разгадал его замыслы. Рапорт Чичагова от 14 сентября Кутузов получил 22 сентября. В тот же день он писал Александру I, что «адмирал Чичагов намерен был действовать и далее от Бреста на Варшавское герцогство», и подчеркнул, что это противоречит «общему плану» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 351–352].
Наполеон узнал о переходе 3-й и Дунайской армий в наступление из донесения Шварценберга, поступившего в Москву 24 сентября. Есть основания считать, что это известие ускорило решение Наполеона оставить Москву. С 24 сентября началась подготовка отступления. Оперативная переписка французского полководца конца сентября – начала октября показывает, что он разработал грандиоз- ный план войны на осень 1812 г. Главная французская армия при поддержке войск, дислоцирующихся в Смоленской губернии и Южной Белоруссии, должна была прорваться через Калугу на Украину. На австро-польско-саксонские войска, численность которых Наполеон требовал довести до 160 тыс. человек, возлагалась задача разгромить 3-ю и Дунайскую армии и овладеть западными украинскими губерниями. Французский император рассчитывал перезимовать на Украине, усилить свою армию, а весной 1813 г. возобновить военные действия [1].
На решение Наполеона оставить древнюю русскую столицу оказали влияние и другие факторы: пожар Москвы, начавшееся разложение его армии, отказ правительства России вести переговоры о мире, приближение зимы. Но главной причиной бегства врага из Москвы была народная война. «.. Не усматривая впереди ничего другого, как продолжение ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию... предпринял он поспешное отступление вспять» [28, с. 56], – констатировала 24 октября листовка Главного штаба.
Кутузов знал о тяжелом положении французской армии. Он был убежден, что «Наполеон долго в Москве не пробудет». Важно было установить направление, в котором двинется неприятель. Свои первые соображения на этот счет фельдмаршал изложил в рапорте Александу I от 22 сентября, т. е. в тот день, когда он убедился из донесений Чичагова и Тормасова о невозможности привлечь их войска к борьбе против основных сил Наполеона. «Показания пленных и дезертиров весьма разнообразны, – писал Кутузов. – Трудно теперь проникнуть намерение его (Наполеона. – Б. А.) показания некоторых пленных дают даже подозрение, что неприятель намерен ретироваться по Смоленской дороге». Далее Кутузов сообщал, как будет действовать в той или иной ситуации. Если Наполеон станет отступать по Смоленской дороге, русские войска, «не теряя времени», двинутся «параллельно сей дороге к Юхнову», если же противник пойдет в южном направлении, то предполагалось послать ему навстречу 1–2 пехотных корпуса с артиллерией [29, Т. IV, Ч. 1, с. 354]. Из этого донесения ясны идеи, которыми Кутузов руководствовался до и после Малоярославецкого сражения: встречным наступлением не позволить врагу прорваться на юг, а затем преследовать параллельным маршем. Из донесения видно, что показаниям пленных о намерении Наполеона отступать по Смоленской дороге Кутузов не доверял.
В начале октября юго-западное направление фигурировали в показаниях пленных и дезертиров все чаще. Племянник французского военного министра Ж. Кларка заявил, что «Наполеон не намерен оставаться в Москве, а проложит себе путь силою на Украину» [15, с. 208]. На основании этого и других показаний составители журнала военных действий Главного штаба пришли к выводу, что «намерение главной французской армии по выходе из Москвы следовать на Калугу и далее и чрез то овладеть изобильнейшими губерниями» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 248].
В конце сентября – начале октября Кутузов провел серию мероприятий, направленных на срыв замыслов противника. Прежде всего он поставил под наблюдение армейских партизан все возможные пути отхода наполеоновской армии из Москвы. «Все разосланные партии, – говорится в журнале военных действий за 25–28 сентября, – хотя и находятся в различных от армии направлениях, но не менее того составляют между собою непрерывную связь» [29, Т. IV, Ч. 1, с. 400].
Это позволило Кутузову своевременно установить скрытое движение наполеоновской армии к Малоярославцу. Заблаговременно высланные им войска подошли 12 октября к городу почти одновременно с передовыми частями Большой армии. В ожесточенном сражении за Малоярославец русская армия сорвала основной замысел стратегического плана Наполеона – прорваться в Калугу, затем в украинские губернии. В «летучей» брошюре Главного штаба подчеркивалось: «Сей день, увенчавший русское оружие новою славою, прекратил мгновенно все стратегические тонкости Наполеона и смешал все его планы» [28, с. 101]. В донесении царю от 7 ноября Кутузов писал, что «должно было прежде думать закрепить коммуникации наши с Калугою и воспрепятствовать ему (противнику. – Б. А.) вход в оную, чрез которую намерен он был пройти в Орловскую губернию и потом в Малороссию...» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 320–321].
Вынудив наполеоновскую армию отступать по разоренной Смоленской дороге, главнокомандующий выполнил часть своего замысла. Направив авангард через Боровск к Верее, Кутузов с основными силами двинулся 15 октября на Вязьму и тем самым приступил к реализации второго замысла – параллельного преследования и уничтожения войск агрессора. По словам фельдмаршала, параллельное движение давало возможность сохранять «сообщение с нашими хлебородными провинциями» и прикрывать их, поддерживать связь с войсками Чичагова, заставляло противника непрерывно отступать, «опасаясь, чтобы я его не обошел». Но главной задачей Кутузов считал «истребление врага до последней черты возможности» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 226, 283, 392]. С этой целью он направил «летучие» отряды, которые наносили непрерывные удары по отступавшим вражеским колоннам. Наполеону не удалось ни остановиться, ни сойти со Смоленской дороги. В сражениях под Вязьмой, Дорогобужем, Ляховом русские войска нанесли противнику жестокие удары.
Крупных успехов в это время добились корпуса Витгенштейна и Штейнгеля. Они овладели сильно укрепленным Полоцком и нанесли жестокое поражение противнику при Ушаче и Чашниках. Корпуса Виктора, Сен-Сира и Удино отступали к г. Сенно. Создалась реальная возможность разгромить основные силы Наполеона в междуречье до их соединения с этими корпусами. В предписании Витгенштейну от 2 ноября Кутузов одобрил его действия и выразил предположение о том, что отступающие вражеские корпуса попытаются «соединиться с главною их армиею». Фельдмаршал поделился своим намерением нанести сильное поражение Наполеону под Красным, а затем, «переправясь при Орше или другом каком месте через реку Днепр, направиться в направлении через Смоляны на Сенно или Лепель». «Я полагаю, подчеркивал Кутузов, – что главное поражение, которое неприятелю нанести можно, должно быть между Днепром, Березиною и Двиною, и для того содействие ваше в сем случае необходимо» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 269].
Одновременно Главный штаб решил провести две операции по освобождению Южной Белоруссии. На корпус Эртеля возлагалась задача разгромить дивизию Домбровского и снять осаду Бобруйской крепости, гарнизон которой почти четыре месяца вел героическую борьбу. «Сим движением до-ставя значащую выгоду в главном предмете всех действий, – писал 28 октября Кутузов Эртелю, – ваше превосходительство будете непосредственно способствовать истреблению общего врага» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 230–231].
Черниговское земское ополчение, усиленное украинскими казачьими полками, должно было «занять г. Могилев без малейшей потери время». Приказ двигаться на Могилев получили также часть Калужского ополчения и армейские партизанские отряды А.П. Ожаровского, Д.В. Давыдова, А.С. Сеславина. Перед каждым из них ставилась конкретная боевая задача. Так, Сеславину поручалось вести разведку, а Давыдову приказывалось, переправясь через Днепр, прервать «неприятелю всякое сообщение между Могилевым и Оршею». Каждое соединение получило направление движения: Черниговское ополчение с приданными полками наступало на Могилев с юга, Калужское – с юго-востока, отряд Ожаровского – с севера. Во всех приказаниях подчеркивалось значение этой операции. Так, в приказании на имя Д.В. Давыдова говорилось: «Генерал-адъютант граф Ожаровский, генерал-лейтенант Шепелев (начальник Калужского ополчения. – Б. А.) и Черниговское ополчение – все направлены на Могилев, ибо овладение оного есть самая большая важность для армии» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 187, 339].
Таким образом, в конце октября Кутузов намеревался разгромить по частям находившиеся в Белоруссии вражеские войска. Самую ответственную задачу – ликвидацию основных сил Наполеона – фельдмаршал возлагал на Главную армию и корпуса Витгенштейна и Штейнгеля. Кутузов не определял точно район, где он намеревался дать решающее сражение, но совершенно очевидно, что оно должно было произойти до Березины.
Не все эти замыслы были реализованы. Как и рассчитывал Кутузов, Главная армия упредила противника под Красным и в трехдневном сражении (4–6 ноября) наголову разгромила корпуса Даву и Нея. Успешно была проведена Могилевская операция. Но генералы Эртель, Витгенштейн и Штейн-гель не выполнили поставленных задач.
Сославшись на трудности переправы через Припять, покрывавшейся льдом, Эртель не выступил из Мозыря. Дивизия Домбровского беспрепятственно отошла в Борисов и сыграла главную роль в боях за город. Эртель не выполнил и требование петербургского плана о движении на Борисов. Сложилась парадоксальная ситуация: Чичагов игнорировал распоряжения Кутузова, а Эртель не выполнял приказы Чичагова. Разгневанный адмирал отстранил строптивого генерала от командования корпусом и назначил вместо него генерал-майора А.С. Тучкова. Сообщая об этом Кутузову, Чичагов 7 ноября писал: «Надеюсь, что за столь важное преступление он (Эртель. – Б. А.) предан будет суду...» [45, ф. 14414, 1812 г., оп. 10/291, св. 68(281), д. 12, л. 22]. По распоряжению Александра I Эртель был назначен в декабре 1812 г. военным генерал-полицмейстером действующей армии [39, c. 214].
Не лучшим образом поступил и Витгенштейн. Овладев 20 октября Лепелем, он доложил Александру I о своем намерении наступать на Вильно и представил дело так, что якобы его войска сражаются чуть ли не со всей наполеоновской армией. В рескрипте от 30 октября царь обвинил Кутузова в том, что он подверг корпус Витгенштейна «очевидной опасности» [45, ф. ВУА, 1812 г., д. 453, л. 29]. Фельдмаршалу пришлось опровергать это лишенное основания обвинение и заверять императора, что «неприятель со всеми силами своими не в состоянии нанести сильного вреда генералу Витгенштейну» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 322].
Необходимо подчеркнуть, что Кутузов не настаивал на выполнении своих распоряжений, отданных Витгенштейну и Эртелю. Во-первых, он прекрасно понимал, что оба генерала, зная о присланном Александром I плане, вольны были не выполнять его предписаний. Во-вторых, 3 ноября Кутузов получил рапорт Чичагова от 20 октября, в котором тот сообщал, что, «не видя в преследовании неприятеля до Вислы к существенной для операций наших пользы, кроме совершенной потери времени в достижении предназначенных» ему «пунктов», решил следовать на Березину [38, с. 102–103].
Донесение Чичагова чрезвычайно обрадовало Кутузова. «С несказанным удовольствием получил я рапорт ваш от 20 октября под № 1790, – писал в тот же день фельдмаршал адмиралу, – из которого вижу, чтобы надеетесь около 7-го числа быть в Минске. Сие движение ваше решить должно несказанно много при нынешних обстоятельствах». Кутузов подробно информировал Чичагова о действиях своей армии, о тяжелом положении войск противника и выразил уверенность в успешном завершении операции по окружению и разгрому врага. Пересылая Александру I рапорт Чичагова, Кутузов 4 ноября подчеркнул: «Сие движение обещает самые щастливые последствия, ибо от Минска – только два марша до Борисова – место, где предполагается общее соединение всех сил». Сообщив о следовании Главной армии «параллельно движению неприятеля», об установлении «непрерывного сообщения с графом Витгенштейном» и о посылке «летучих» отрядов в разных направлениях, фельдмаршал заключал: «Сим средством, беспокоя неприятеля со всех сторон, упреждая и затрудняя везде его марш, с помощью всевышнего надеюсь нанесть неприятелю величайший вред» [29, Т. IV, Ч. 2, с. 282, 291–292].
Итак, только 3–4 ноября Кутузов принял решение разгромить наполеоновскую армию на Березине, в районе Борисова. Это был уже третий район, в котором фельдмаршал намеревался нанести противнику «главное поражение». Но необходимо подчеркнуть, что такое решение он вынужден был принять под давлением обстоятельств. Витгенштейн и Эртель отказались следовать в междуречье. Войска русских фланговых группировок стягивались к Березине. Сюда же отступали остатки главной армии Наполеона, корпуса Виктора, Сен-Сира и Удино.
Ход и результаты Березинской операции освещены в трудах Л.Г. Бескровного, П.А. Жилина и других историков.
Подведем итоги.
В рескрипте Александра I от 8 августа 1812 г. и в ряде других документов подчеркивалось, что М.И. Кутузов назначается главнокомандующим «над всеми действующими армиями». Однако это назначение носило формальный характер. Фактически Кутузову подчинялись только 1-я и 2-я армии, объединенные затем в Главную армию. Командующим 3-й и Дунайской армиями, командирам отдельных корпусов Александр I отдавал приказы через голову главнокомандующего и без согласо- вания с ним. В привилегированном положении находился адмирал П.В. Чичагов, которому император предоставил огромную власть и подчинил значительную часть войск. Все это Кутузов прекрасно понимал. Не случайно он обращался к начальникам этих соединений не с приказами и распоряжениями, а с письмами.
Вмешательство Александра I в управление войсками особенно пагубно сказалось при разработке планов разгрома врага. Зная о намерении Кутузова нанести поражение центральной группировке Наполеона силами Главной и Дунайской армий восточнее Днепра, царь вместе с тем утвердил разработанный его ближайшим окружением план, который преследовал цель разгромить прежде всего фланговые группировки и выйти к Березине. Без согласования с фельдмаршалом Александр I произвел перестановку в высшем командном составе. Тем самым царь грубо нарушил утвержденное им накануне войны «Учреждение для управления Большой действующей армии».
Это привело к тому, что в период контрнаступления русские войска действовали по двум стратегическим планам: Главная армия – по кутузовскому, фланговые группировки – по петербургскому. Пользуясь покровительством Александра I, Чичагов, Витгенштейн и Эртель не выполняли предписаний Кутузова, а Чичагов уклонялся даже от выполнения петербургского плана и почти на месяц опоздал с выходом к Березине.
Замыслы Кутузова в ходе контрнаступления менялись в зависимости от конкретно складывающейся обстановки на театре военных действий. Но главная идея его плана – концентрическим наступлением основных сил русских войск окружить и уничтожить армию Наполеона до ее соединения с резервами и фланговыми группировками – оставалась неизменной с середины августа до начала ноября. Реализация этого замысла позволила бы закончить войну в короткий срок и с минимальными потерями. Но он был сорван по вине Александра I. Русской армии пришлось вести изнурительное преследование противника, что привело к большим жертвам.
Находясь в крайне двойственном положении, М.И. Кутузов проявил не только выдающиеся качества полководца, но ум, выдержку и гибкость государственного деятеля. Его твердость и последовательность способствовали достижению им же поставленной цели – истребить наполеоновское нашествие «до последней черты возможности». Результаты соответствовали великим замыслам.
Список литературы Контрнаступление русских войск в 1812 году: планы и их реализация (к 175-летию Отечественной войны 1812 г.)
- Абалихин Б.С. О стратегическом плане Наполеона на осень 1812 г. // Вопросы истории. 1985. № 2.
- Абалихин Б.С., Дунаевский В.А. Отечественная война 1812 г. и освободительная миссия русской армии (итоги и перспективы исследований) // История и историки. Историографический ежегодник. 1974. М., Л., 1976.
- АВПР (Архив внешней политики России, ныне АВП РФ – Архив внешней политики Российской Федерации).
- Беннигсен Л. Письма о войне 1812 г. Киев, 1912.
- Бескровный Л.Г. Две стратегии. 1812 год. К 150-летию Отечественной войны: сб. ст. М., 1962.
- Бескровный Л.Г. Отечественная воина 1812 г. и контрнаступление Кутузова. М., 1951.
- Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 г. М., 1962.
- Бескровный Л.Г. Русское военное искусство XIX в. М., 1974.
- Большевик. 1947. № 3.
- Бутурлин Д.П. История нашествия Наполеона на Россию в 1812 г. Ч. 2. СПб., 1824.
- Военная мысль. 1945. № 12.
- Горяинов С. 1812 год. Ч. 2. СПб., 1912.
- Готовцев А. Полководческий путь М.И. Кутузова // Военная мысль. 1945. № 12.
- Двенадцатый год (1812). Исторические документы собственной канцелярии главнокомандующего III Западной армией А.П. Тормасова. СПб., 1912.
- Дубровин Н. Отечественная война в письмах современников. СПб., 1882.
- Жилин П.А. Контрнаступление Кутузова в 1812 г. // Пропагандист и агитатор (журнал ГПУ Вооруженных Сил СССР). 1947. № 20.
- Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1968; изд. 2, испр. и доп. М., 1974.
- Жилин П.А. Контрнаступление Кутузова в 1812 г. М., 1950. (Второе издание, расширенное и уточненное, вышло в 1953 г. под названием «Контрнаступление русской армии в 1812 г.»).
- Жилин П.А. Михаил Илларионович Кутузов. Жизнь и полководческая деятельность. М., 1978.
- Жилин П.А. Полководческая деятельность М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. // Военно-исторический журнал. 1962. № 7.
- Записки графа А.Ф. Ланжерона // Изборник разведчика. 1899. № 12.
- Зотов Р.М. Военная история Российского государства. Ч. 4. СПб., 1839.
- История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. IV. М., 1967.
- История СССР. XIX – начало XX в. М., 1981.
- Коробков Н.М. Михаил Кутузов. М., 1945.
- Ленинградское отделение Архива АН СССР, ф. 489 (ф. Н.К. Шильдера), оп. I, д. 33, л. 13.
- Линков Я.И. Отечественная война 1812 г. и стратегическое контрнаступление Кутузова // Пропагандист и агитатор (журнал ГПУ Вооруженных Сил СССР). 1947. № 9.
- Листовки Отечественной войны 1812 г.: сб. документов. М., 1962.
- М.И. Кутузов. Сб. документов. Т. I–V. М., 1950–1956.
- Михаил Илларионович Кутyзов. К 200-летней годовщине со дня рождения. М., 1945.
- Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны в 1812 г. по высочайшему повелению. Ч. 3. СПб., 1840.
- Михневич Н.П. Отечественная война 1812 г. Вып. IV. СПб., 1912.
- Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА. Т. 19. СПб., 1912.
- Отечественная война 1812 г. Материалы ВУА. Т. 17. СПб., 1912.
- Полководческая деятельность Кутузова в 1812 г. Документы. // Военная мысль. 1945. № 9.
- Попов А.Н. Отечественная война 1812 г. От Малоярославца до Березины. Историческое исследование. СПб., 1877.
- Русская старина. 1909. сентябрь. С. 266–267.
- Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной е. и. в. Канцелярии. Вып. 10. СПб., 1898.
- Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной е. и. в. канцелярии. Вып. 2. СПб., 1878.
- Сборник Русского исторического общества. Т. 6. СПб., 1871.
- Советская военная энциклопедия. Т. 8. М., 1980.
- Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию в 1812 году. М., 1938.
- Фельдмаршал Кутузов. Сб. документов. М., 1945. (Вторым исправленным и значительно расширенным изданием сборник вышел в 1947 г.).
- Харкевич В.И. 1812 год. Березина. СПб., 1893.
- ЦГВИА СССР (Центральный государственный военно-исторический архив СССР, ныне РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив).
- ЦГИА СССР (Центральный государственный исторический архив СССР, ныне РГИА – Российский государственный исторический архив).
- Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. I. СПб., 1897.
- Ярославцев А. Стратегия Кутузова в войне 1812 г. // Военная мысль. 1945. № 9.
- Correspondence de Napoleon 1-er, t. 24. P., 1868. P. 116.
- Fain (A. I. F.). Manuscrit de 1812, contenant le precis des evenemens de cette аnnee, t. 1. P., 1827. P. 423–424.