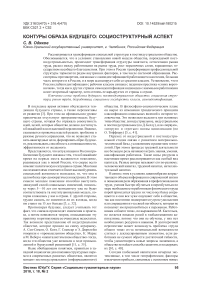Контуры образа будущего: социоструктурный аспект
Бесплатный доступ
Рассматривается трансформация социальной структуры в постиндустриальном обществе. Обосновывается, что в условиях становления новой модели общества, порождаемой постиндустриальностью, происходит трансформация структуры занятости, сегментация рынка труда, раскол между работниками на рынке труда, рост нерыночных слоев, взращенных государством всеобщего благоденствия. При этом в России трансформация профессиональной структуры тормозится рядом внутренних факторов, в том числе системой образования. Рассмотрены противоречия, связанные с самоидентификацией работающего населения, большая часть которого и в России, и в мире ассоциирует себя со средним классом. Установлено, что в России слабая идентификация с рабочим классом связана с падением престижа «синих воротничков», тогда как в других странах самоидентификация индивидов с наемными работниками носит вторичный характер, хотя степень ее варьируется от страны к стране.
Проблема будущего, постиндустриальное общество, социальная структура, рынок труда, безработица, социальное государство, классы, самоидентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/147151254
IDR: 147151254 | УДК: 316/3(470) | DOI: 10.14529/ssh180215
Текст научной статьи Контуры образа будущего: социоструктурный аспект
В последнее время активно обсуждаются тенденции будущего страны, а также перспективы ее развития [3]. При этом на официальном уровне практически отсутствует программа-модель будущего страны, которая бы отражала совокупность идей, целей, которые общество должно достигнуть в ближайшей или отдаленной перспективе. Видимо, сказывается привычка властей решать проблемы в режиме ручного управления, что не позволяет ставить авангардные цели, формировать образ будущего, реализовывать способность к инновационности, эффективности от желаемого.
Представляется, что актуализация в России проблематики будущего связана с тем, что в ближайшее время на первые места выдвинется поколение, родившееся уже в новой России, что скорее всего изменит политическую ситуацию в стране. Многими исследователями отмечается более высокий уровень социальной активности молодежи, то, что она в целом более про-демократически настроена. В этом смысле молодое поколение способно выступить движущей силой социальных изменений, поскольку через 5—10 лет его менталитету уже не будет соответствовать та институциональная модель, которая сложилась у нас в стране. С другой стороны, трудно сказать, не изменятся ли их взгляды, когда им станет на 15 лет больше [3, с. 32].
Прогнозируя будущее, следует учитывать тот факт, что сначала происходят изменения в практике, а потом появляются теории, описывающие эту практику и критикующие ее очевидные недостатки. Так возникло представление об индустриальном обществе, которое пришло на смену аграрному. А. Сен-Симон, О. Конт, Г. Спенсер и Э. Дюркгейм говорили о «промышленном обществе», К. Маркс и М. Вебер о «капиталистическом обществе» тогда, когда эти общества уже возникли в ходе промышленной и буржуазной революций [11, с. 35].
Ныне обобщающим понятием, принятым в западной социологии для описания структурных перемен в современных развитых обществах, является концепт постиндустриального (информационного)
общества. В философско-социологическом плане он вырос из изменения триадического принципа классификации социальных явлений к истории человечества. Это позволило выделить три основных типа общества: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное (по Д. Беллу), или «первую», «вторую» и «третью» волны цивилизации (по О. Тоффлеру) [5, с. 41].
Переход от индустриальной к постиндустриальной стадии связан с развитием материальнотехнической базы, усложнением и развитием технологий. При этом в процессе трудовой деятельности все большую роль начинают играть знания, умения, квалификация работника. Такие виды ресурсов в настоящее время рассматриваются как особый вид капитала. Разные авторы называют его по-разному: человеческий капитал, трудовой капитал, интеллектуальный капитал.
В связи с этим в условиях лавинообразно возрастающего объема информации в современной жизни и повышения роли образования в профессиональном труде, умения быстро обучаться и переобучаться по мере необходимости работникам физического труда порой приходится трудно: их число все более сокращается и они все хуже ощущают себя в обществе, так как постоянно подвергаются угрозе увольнения или сокращения из-за своей негибкости, которая не позволяет им приспособиться к переменам. Работникам «общего типа», по выражению М. Кастельса, не остается никаких ролей в глобализованном капитализме, потому что они не обучены, у них нет необходимых ресурсов и навыков. В долгосрочной перспективе может возникнуть проблема «труда общего типа» из-за потенциальной возможности слиться с деклассированным элементом, если работники не сумеют обрести достаточной гибкости, чтобы удовлетворить новые запросы экономики, а общество не найдет способы защитить и поддержать их [10, с. 40].
Сегодня глобальный капитализм исчерпал экстенсивные, в том числе географические, факторы извлечения прибыли, связанные с освоением новых рынков сбыта и взаимовыгодным обменом между регионами, имеющими конкурентные преимущества в производстве разных товаров. Постоянный рост производительности труда позволяет удовлетворить практически любой потенциальный спрос. В данной ситуации на горизонте будущего возникает (анти-)утопия нового общества, где развитие перестает быть тождественно экономическому росту, традиционно определяемому трудом и капиталом. Оно все больше будет определяться такими факторами, как социальные противоречия и экономические неравенства, которые будут естественным образом нарастать, нуждаясь в усилении политических механизмов справедливости, выравнивания и нерыночной регуляции для предотвращения новых революций [4, с. 143].
Причем главным противоречием грядущей эпохи, скорее всего, будет противоречие между собственниками ресурсов в самых разных их формах, на которые предъявляется повышенный спрос современным производством (от человеческого капитала до капитала финансового, включая бренды, ноу-хау, технологии и многое другое) и так называемыми «лишними» людьми [12, с. 286—287]. Попробуем конкретизировать эти линии нового социального разделения и вывить, какие факторы способствует нарастанию такого рода противоречий.
В условиях позднеиндустриального общества произошли изменения, которые привели к существенному сокращению доли производственных отраслей экономики — агарной и индустриальной. В результате этого произошел переход наемной рабочей силы из производственных отраслей — первичного (сельского хозяйства) и вторичного (промышленного) секторов — в третичный сектор (сферу услуг), где широко используются информационно ёмкие технологии (см. табл. 1).
При этом «переход от индустриальных к постиндустриальным экономикам сопровождался новым типом социальной поляризации в самых благополучных городах и возникновением крайне сегрегированного рынка труда: с одной стороны, хорошо оплачиваемых высокообразованных работников финансового сектора, недвижимости, страхования, хай-тек отраслей и, с другой стороны, работников малооплачиваемых, “гибких” (то есть без контракта и льгот) форм занятости в потребительском сервисе» [13, с. 245].
Согласно Р. Коллинзу, глобальные рынки капитализма исчерпали все запасные ниши на рынке труда, в которые могли бы мигрировать ставшие безработными в ходе нарастающей автоматизации сначала механического, а затем и интеллектуального производства. Поэтому рост ничем не компенсируемой структурной безработицы является ключевым вызовом капитализму: «как долго продержится капитализм, если средний класс образца ХХ века в следующем столетии будет превращаться из его массовой политической и экономической базы в массу обездоленного недовольства?» [2, с. 10].
Схлопывание вакансий расширяет такие скрытые формы безработицы, как неполный рабочий день или сокращенная трудовая неделя, вынужденные (административные) отпуска, поддерживает противозаконные занятия и воскрешает практики отходничества как сезонной деятельности, основанной преимущественно на личной трудовой инициативе и/или на доверии работодателя и работника [6]. Эти труд и доходы, теневые институты и практики не попадают в поле зрения государства, но при этом являются закономерным следствием кризиса сложившейся экономической модели общества. Рост безработицы наиболее резко обостряет проблемы бедного населения, расположенного на периферии всех общественных измерений — экономических, культурных, этнических и пр. Трудящиеся массово становятся лишними людьми, в отношении которых происходит стремительная дегуманизация властного дискурса. Они больше не могут доказать свою рыночную полезность, поэтому отношение к ним перепрограммируется как к социальной патологии, бросающей вызов трудовой морали. Политическая роль людей труда падает и потому, что происходит общее снижение доли/стоимости труда в товарном
Таблица 1
Отраслевая структура валового внутреннего продукта
|
Страна |
Год |
>s s Иди £ 5 и g a ® н et ч ^ © я д a M Й и |
В том числе в отраслях |
||||||
|
© © © R и © - ® и © g « © ■© д © R * « ® © s Una |
R © В |
© H 5 s © a и U |
2 S 2 | « « h a 5 2 © U S Д © a H S' H |
। 3 © © » a S а ч 8 2 ® S s о a H S^iSla 8 b j 5 | g s © g S 3 S S * S e н s er s |
й s®”§- © S S у >4 S R 2 © © а и s s |
s s © К |
|||
|
Россия |
2015 2016 |
100 100 |
4,6 4,8 |
26,4 26,2 |
6,4 6,2 |
25,0 24,5 |
21,2 21,7 |
14,1 14,3 |
1,7 1,7 |
|
Италия |
2015 |
100 |
2,3 |
18,8 |
4,9 |
24,1 |
28,8 |
17,7 |
3,9 |
|
Германия |
2015 |
100 |
0,5 |
25,7 |
4,7 |
20,4 |
26,3 |
18,3 |
4,1 |
|
Франция |
2015 |
100 |
1,7 |
14,1 |
5,4 |
22,7 |
30,1 |
23,0 |
3,0 |
|
США |
2013 |
100 |
1,4 |
16,6 |
3,9 |
21,9 |
30,4 |
22,6 |
3,2 |
|
Япония |
2013 |
100 |
1,2 |
20,4 |
5,9 |
25,0 |
16,3 |
11,4 |
19,9 |
Источник : [7: с. 71]; [8, c. 85—86].
производстве при росте значения капитала и знания. Например, в США доля трудовых доходов граждан в их общем объеме снизилась с 66 % в 1947 г. до 58 % в 2011 г., а в России — с 76,4 % в 1990 г. до 65,6 % в 2015 г. Следует особо отметить, что последняя цифра включает вменённый гражданам объем скрытой заработной платы, который составляет около 20—23 % от общих доходов населения [4, с. 143—144].
В новом капитализме, который все более обретает контуры общества без традиционного труда, будет расти роль доступа граждан к различным рентам как условиям их выживания. И наиболее вероятно, что эти ренты будут предоставляться, прежде всего, не глобально исчерпанным рынком, а государством. Острой проблемой становится тот факт, что государство не может компенсировать масштабные потери рабочих мест, которые наблюдаются в частном, рыночном секторе. Вынужденное раздувание численности бюрократических структур и бюджетников ложится дополнительной налоговой нагрузкой на рыночной сектор. Возникает ложный круг решения проблемы занятости, который все более превращает рыночное общество в рентное: рынок перестает создавать новые рабочие места, а экономическая роль государства, которое специализируется на гарантии определенных благ и услуг — безопасность, здравоохранение, обучение, управление — продолжает разрастаться [4, с. 145].
По мнению О. И. Шкаратана, «основное социальное разделение в обществе позднего индустриализма проходит между теми, кто приобретает возможности удовлетворять свои потребности через рынок, и теми, кто всецело зависит от государственного дохода и прямой государственной помощи» [14, с. 196]. В условиях такого разделения государство объективно заинтересовано не только в сохранении круга аутсайдеров, или «лишних людей». В воспроизводстве этого социального слоя государство находит оправдание своей редистибутивной политике. В этом одна из причин того, почему государству выгодны ограничения, налагаемые на доступ к рынку труда сокращением рабочих мест, небольшим объемом неэкономического капитала, заинтересованностью работодателей в росте производительности труда. Ослабление позиций наемного труда отвечает интересам государства благосостояния [5, с. 68].
Ответ на вопрос, как само работающее население воспринимает свою социальную принадлежность, дают данные проведенного автором в 2007—2009 гг. на крупных и средних предприятиях базовых отраслей промышленности Челябинской области исследования1. Оно основывалось на субъективном методе социального группирования, в соответствии с которым статус работника, понимаемый как позиция, занимаемая им в структуре социальной организации, измерялся на основе ответов респондентов на вопрос: «Если бы наше общество можно было представить в виде пирамиды, то в какую ее часть Вы бы себя поместили?».
По данным исследования, средний коэффициент социального статуса (Ксс)2 по выборке составил 1,80, что говорит об определенном смещении в сторону низших страт. Несмотря на то, что бόльшая часть работников относит себя к «среднему» классу (63,0 %), наблюдаются некоторые различия между социально-профессиональными группами. Так, 14,4 % руководителей поместили себя в высшую часть условной пирамиды общества. Среди специалистов и рабочих таких 8,5 % и 6,7 % соответственно. В «средней» страте преобладают специалисты — 67,3 %. За ними следуют с небольшим отставанием руководители и рабочие (63,6 % и 60,3 % соответственно). Наконец, в нижнем слое больше всего рабочих: так оценил свое положение в социальной иерархии общества каждый третий из них. Среди специалистов придерживаются такой точки зрения каждый четвертый, а среди руководителей — почти каждый пятый (22 %).
В другом исследовании3 было установлено, что в сознании респондентов водораздел проходит не по признаку принадлежности к собственникам и лицам наемного труда, а по линии принадлежности к среднему классу и рабочему классу. Поскольку средний класс включает в себя кроме собственников, и другие слои, в том числе самозанятых, лиц свободных профессий, то можно сказать, что респонденты лишь отчасти идентифицируют себя с наемными работниками. Крайне низка степень самоидентификации респондентов с нижним и верхними социальными слоями. Подавляющее большинство респондентов дистанцируется как от высших, так и от низших классов, т. е. от тех слоев, с которыми обычно ассоциируется классовое противостояние. В сознании респондентов эта форма социального разделения вытеснена его медиационной формой, где социальные различия лишены острой конфронтации (см. табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов населения разных стран на вопрос: «К какому слою в обществе Вы, скорее всего, отнесли бы себя?»
|
Варианты ответов |
3 и |
№ О w У Н ч у м « |
* 5 es S у 5 я S гл U |
К S а н ^ |
н |
|
К высшему |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
К среднему |
52 |
52 |
71 |
59 |
63 |
|
К рабочему |
41 |
44 |
26 |
38 |
34 |
|
К низшему |
5 |
3 |
2 |
1 |
3 |
Источник: [9, c. 10].
Примечательно, что в США и Великобритании больше респондентов, которые идентифицируют себя с рабочим классом, а в Германии меньше всего респондентов, считающим себя рабочими. Во всех указанных в таблице 2 странах больше тех, кто относит себя к среднему классу. Однако в США и Великобритании отнесли себя к среднему классу меньше респондентов, чем в других странах [5, с. 69].
В России так же, как и в Германии, крайне низка степень идентификации работающего населения с рабочим классом. И это несмотря на то, что индустриальные квалифицированные рабочие в России, в отличие от стран западной Европы, составляют значительную часть населения, как и рабочие низкой квалификации. В совокупности это почти 32 %, что в 2—3 раза больше, чем в развитых странах Запада. Соответственно меньше в России и занятость в сфере обслуживания, которая также относится к постиндустриальному сектору экономики и еще недостаточно развита в стране [1, c. 51—52].
Такое положение вещей скорее всего объясняется тем, что когда у рабочих возникли новые возможности для работы и заработка, прежде всего, в сфере услуг, возникшей как главная часть среднего и малого бизнеса, произошло падение социального престижа «синих воротничков». Исполнительная должность в этой сфере может теперь приносить доход, сравнимый с доходом рабочего в советский период. Поэтому зачастую на производстве возникает проблема нехватки кадров, но новые рабочие места некем заполнить, так как молодежь не хочет идти работать в промышленность.
Попытки правительства искусственно поднять престиж «рабочих профессий» за счет более высокой оплаты труда, чем, скажем, у руководителей предприятий, имеют, на наш взгляд, дисфункциональный характер. Труд инженера и руководителя является более сложным по своему характеру и содержанию, соответственно этому должно быть и вознаграждение. В России же социальный статус (престиж) руководителей и экспертов пока не очень высок, что в значительной мере противоречит общепринятым в мировой практике критериям среднего класса. С одной стороны, его представители располагают значительным объемом символического, социального и культурного капитала. С другой стороны, в существующих условиях им часто не удается конвертировать эти виды ресурсов в экономический капитал.
Согласно Л. А. Беляевой, население России показывает в последние годы довольно заметную динамику в материальной дифференциации при устойчивости своей социальной стратификации. Но даже при росте материального достатка и перемещении в более высокие материальные слои социальный статус большинства населения (60—70 %) остается на прежнем уровне, что говорит о слабой социальной мобильности и консервации социального расслоения. Ресурсы большинства населения не позволяют перемещаться в более высокие слои общества. Нельзя не учитывать близкие и отдаленные последствия такого состояния социальной стратификации для общества в целом и для судеб людей из этих слоев [1, с. 45].
Таким образом, для перехода к постиндустриальному развитию Россия должна будет решать проблему изменения профессиональной структуры населения. Между тем, эта структура развивается с большой степенью инертности, к тому же в последние годы усиливаются тенденции ее межпоколенного воспроизводства, в том числе и посредством системы образования. Система образования плохо выполняет свои функции в восходящей социальной мобильности нижних социальных слоев. При накопленном формальном культурном капитале (высокая доля специалистов с высшим и средним специальным образованием) России, если она намерена осуществить модернизацию свой экономики и придать ей современные постиндустриальные черты, предстоит так изменить профессиональную структуру населения, чтобы решалась задача замещения физического труда преимущественно интеллектуальным и осуществлялся переход к высокотехнологичной и информационной экономике, т.е. формировалась социальная структура общества с большой долей среднего класса. Кроме того, важно, чтобы механизмы социальной мобильности работали в направлении обеспечения общества равных возможностей и воздаяния в соответствии с индивидуальными заслугами, пропорционально личной эффективности.
Список литературы Контуры образа будущего: социоструктурный аспект
- Беляева, Л. А. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство (часть вторая)/Л. А. Беляева//Мониторинг общественного мнения. -2010. -№ 3 (97). -Май -июнь -С. 18-46.
- Валлерстайн, И. Есть ли будущее у капитализма?/И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн, Г. Дерлугьян, К. Калхун. -М.: Изд. Инст. Гайдара, 2015. -320 с.
- Демиденко, С. Ю. Российское общество: взгляд в будущее (материалы «круглого стола»)/С. Ю. Демиденко//Социологические исследования. -2017. -№ 6. -С. 25-43.
- Мартьянов, В. С. Наше рентное будущее: глобальные контуры общества без труда?/В. С. Мартьянов//Социологические исследования. -2017. -№ 5. -С. 141-153.
- Наемный работник в современной России/отв. ред. З. Т. Голенкова. -М.: Новый хронограф, 2015. -368 с.
- Плюснин, Ю. М. Отходничество как новый фактор общественной жизни/Ю. М. Плюснин, А. А. Позаненко, Н. Н. Жидкевич//Мир России. -2015. -№ 1. -С. 35-71.
- Россия и страны -члены Европейского союза. 2017: стат.сб./Росстат. -M., 2017. -264 c.
- Россия и страны мира. 2016: стат. сб./Росстат. -M., 2016. -379 c.
- Симончук, Е. В. Рабочий класс в Украине: хроника потерь/Е. В. Симончук//Социология: теория, методы, маркетинг. -2005. -№ 4. -С. 5-25.
- Слюсарянский, М. А. Проблемы интеллектуального труда в современном обществе/М. А. Слюсарянский//Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. -2013. -№ 19 (46). -С. 36-42.
- Тихонов, А. В. Отечественная социология: проблемы выхода из состояния преднауки и перспективы развития/А. В. Тихонов//Новые идеи в социологии: монография; отв. ред. Ж. Т. Тощенко. -М.: Юнити-Дана, 2013. -С. 33-49.
- Тихонова, Н. Е. Социальная структура современной России: теории и реальность/Н. Е. Тихонова. -М.: Новый хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014. -408 с.
- Трубина, Е. Центр и периферия: между ростом и развитием/Е. Трубина//Логос. -2013. -№ 4. -С. 237-266
- Шкаратан, О. И. Социология неравенства. Теория и реальность/О. И. Шкаратан. -М.: ИД Высшей школы экономики, 2012. -527 с.