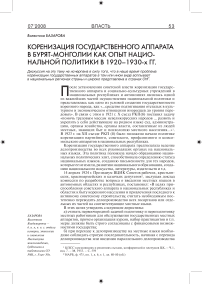Коренизация государственного аппарата в Бурят-Монголии как опыт национальной политики в 1920-1930-х гг
Автор: Базарова Валентина Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Анонс
Статья в выпуске: 7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Дискуссия на эту тему не исчерпана в силу того, что в наше время проблема коренизации государственных аппаратов в том или ином виде всплывает в национальных регионах страны и широко представлена в странах СНГ.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169259
IDR: 170169259
Текст научной статьи Коренизация государственного аппарата в Бурят-Монголии как опыт национальной политики в 1920-1930-х гг
П осле установления советской власти коренизация государственного аппарата и социально-культурных учреждений в национальных республиках и автономиях являлась одной из важнейших частей осуществления национальной политики и представлялась как одно из условий создания государственности коренного народа, как «…средство подтягивания отсталых в культурном и экономическом отношении инородцев до уровня передовых». В связи с этим в 1921 г. Х съезд Р-КП(б) поставил задачу «помочь трудовым массам невеликорусских народов … развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения…»1. В 1923 г. на XII съезде Р-КП (б) было положено начало политике коренизации партийного, советского, профсоюзного и комсомольского аппаратов в национальных республиках.
Коренизация государственного аппарата предполагала ведение делопроизводства во всех руководящих органах на национальных языках. Эта политика положила начало образованию национальных политических элит, способствовала определению статуса национальных языков, созданию письменности для тех народов, которые ее не имели, развитию национального образования, созданию национального искусства, литературы, издательств и т.д.
14 апреля 1924 г. Президиум ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов2, заслушав доклад комиссии по разработке вопроса о введении местных языков в автономных областях и республиках, постановил: «В целях приспособления советского аппарата в национальных республиках и областях к быту коренного населения и привлечения последнего к активному советскому строительству, считать необходимым постепенно переводить делопроизводство всех госорганов или отдельных их частей на соответствующие местные языки.
В этих целях утвердить следующие директивы:
БАЗАРОВА Валентина Владимировна – д. и. н, в. н. с. отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведени я, буддологии и тибетологии СО РАН, г. улан-удэ.
-
а) считать первоочередной задачей подготовку и переподготовку местных работников для обслуживания государственных местных аппаратов, причем организация курсов, набор практикантов и т.п. меры должны быть строго согласованы с финансовыми возможностями государства;
-
б) при переходе к делопроизводству на местные языки необходимо соблюдать строгую последовательность, начиная с перевода делопроизводства или введения параллельного делопроизводства
на местном языке в тех частях аппарата, которые непосредственно обслуживают широкие массы населения, обеспечивая в первую очередь введение на местных языках разговорной речи сотрудников госучреждений и предприятий».
В постановлении подчеркивалось, что при приеме на государственную службу преимущество должно отдаваться лицам, знающим местные языки. Р-аботу по переходу на местные языки начинали в тех республиках и областях, «которые по своей культуре и быту далеко отстали от советской культуры и для которых русский язык является абсолютно недоступным»1. Однако переход к местному делопроизводству ни в коем случае не должен был усложнять работу центральных органов Р-СФСР-, сношение с которыми должно было производиться на русском языке.
26 апреля 1924 г. ЦИК Б-урят-Монгольской А-ССР- принял постановление, в котором указывалось, что ЦИК «приступает к национализации, в первую очередь советского низового аппарата в бурятских районах, приближая его к бурятским массам для привлечения последних к активной общественной работе»2. В связи с этим ЦИК постановил: «1. Ввести в Б-аргузинском, Хоринском, А-гинском, Троицкосавском, Тункинском аймаках и в Верхнеудинском уезде среди бурят-монгольского населения делопроизводство на бурятском языке в следующем порядке: в сомонах – с 1 июня, в хошисполкомах – с 1 июля и в аймисполкомах – с 1 октября с.г.; 2) Б-юллетень ЦИКа и СНК издавать на двух языках: бурятском и русском…»3. Этот документ имел строгую юридическую силу: должностные лица, допустившие нарушения при исполнении этого постановления, подвергались ответственности на основании статьи 107 Уголовного кодекса. В инструкции СНК указывалось, что все официальные бумаги и документы, как государственных органов, так и частных лиц, на бурят-монгольском языке в пределах республики имеют равную силу с этими же документами на русском языке, при этом было подчеркнуто, что в дальнейшем все постановления, различные инструкции, исходящие от органов управления и публикуемые в бюллетенях ЦИК и СНК Б-урят-Монгольской А-ССР-, должны быть на обоих языках4. В этой инструкции особо подчеркивалось, что все руководители учреждений должны привлекать на государственную службу в первую очередь бурят и лиц, владеющих бурятским языком, вне зависимости от их нацио-нальности5. Государственными языками всех партийных собраний, конференций, заседаний съездов в пределах республики были утверждены бурят-монгольский и русский языки. На различных собраниях и совещаниях, где присутствовали люди разных национальностей, а язык, на котором велись эти собрания, был им непонятен, обязательно осуществлялся перевод, при этом не запрещалось выступать как на русском, так и на бурятском языке.
18 августа 1924 г. было созвано особое совещание из представителей партийных, профсоюзных, государственных органов, где были выдвинуты основные положения и намечен план по национализации государственных аппаратов и переводу делопроизводства на бурятский язык. Острота вопроса подготовки кадров для государственного аппарата определялась тем, что значительная часть состоящих на службе ответственных работников не знала бурят-монгольского языка и письменности. Б-уряты, хорошо знающие свой язык и письменность, получили образование в основном в дацанах, большая часть из которых не принимала установившуюся власть. Б-урят, получивших образование в русских учебных заведениях и относившихся лояльно к новой власти, было совсем немного. Такое положение диктовало принятие самых решительных мер. В первую очередь было решено организовывать курсы по изучению литературного бурят-монгольского языка с различными сроками для работников государственных аппаратов и других учреждений. Посещение этих курсов было обязательным и для руководителей различных рангов. Особый интерес вызвало предложение об установлении «штата практикантов для подготовки работников бурят-монгольской национальности для органов и учреждений Б-МА-ССР- из расчета 3 человек на аймак и 50 человек на центральные учреждения и организации Б-урреспублики»6. Все выдви- нутые совещанием предложения и сметы по коренизации советского аппарата были утверждены Президиумом Б-урЦИКа на заседании от 21 августа 1924 г. (протокол № 29, параграф №1). В этом же месяце была учреждена комиссия по проведению коренизации аппарата и реализации бурят-монгольского языка.
В 1926 г. был разработан план «корени-зации» аппарата, рассчитанный на три года. В нем намечалось довести представительство бурят в республиканских учреждениях до 37,7%. На деле же в 1926 г. в этих учреждениях работало всего лишь 7,8% бурят, в 1927 г. – 10,3%. В аймачных и низовых советских и кооперативных органах намечалось довести количество бурят до 33%. Фактически их число в 1926 г. составляло 22,8%, а в 1927г. – 27,5%1.
Вопрос национализации государственных аппаратов предполагал закрепление определенных должностей не только за бурятами, но и за русскими. Поэтому при разработке плана коренизации номенклатурных должностей был также разработан план выдвижения бурят и русских рабочих и крестьян на ответственную руководящую работу. Так, за 1924–1926 гг. было выдвинуто на такие должности 23 русских, 5 бурят и 2 человека значились в графе «Прочие»2. По социальному положению среди них было 6 рабочих, 15 крестьян и 9 служащих. Для успешного проведения национализации государственного аппарата были необходимы национальные работники различной квалификации. Ввиду этого принимались активные меры к увеличению числа командируемых студентов бурят в высшие учебные заведения, рабфаки, техникумы. С каждым годом в учебных заведениях неуклонно росло и число бурят-стипендиатов. Е-сли в 1927 г. стипендиатов было 54, то в 1928 г. – уже 613.
Вместе с тем, несмотря на некоторые успехи в деле коренизации государственного аппарата, все же намеченный план не выполнялся. Особенно плохо обстояло дело в низовых органах из-за неграмотности населения, слабой профессиональной подготовки работников аппарата. В связи со слабыми темпами корени- зации центральных аппаратов и перехода их на параллельное делопроизводство, Б-урятский обком ВКП(б) констатировал, что «для выдвиженцев бурят не созданы необходимые условия в целях закрепления их в госаппарате…»4.
По состоянию дел по коренизации государственного аппарата ЦИК, СНК и Госплана на 1 октября 1929 г. сотрудников бурят было 37,5%, русских – 57,1%, среди них знали бурят-монгольскую письменность только 8 человек, разговорным бурятским языком владели 12 человек, а остальные 36 сотрудников были малограмотными или вовсе не знали язык5.
Учитывая то обстоятельство, что реализация бурят-монгольского языка невозможна без его научной разработки, специалистам-монголоведам было поручено возглавить создание научной базы языка. В последующие годы учеными была установлена единая терминология монгольского языка, реализованы общественно-политические термины, разработаны вопросы квалификации и реализации бурят-монгольского языка.
Однако на практике многие наркоматы не переводили свое делопроизводство на бурятский язык. Ч-асто буряту, приехавшему из улуса по своим неотложным делам, требовалось для обращения в нужное ведомство перевести свое заявление на русский язык, затем с переводчиком-бурятом обращаться туда со своей просьбой. Это затрудняло работу многих государственных ведомств, а главное – отдаляло от народа.
Коренизация государственного аппарата, основные задачи которой были достигнуты к концу 30-х гг., дала бурятскому народу значительные политические дивиденды. Государство и аппарат приблизились к обслуживанию населения, многие люди стали доверительнее относиться к новой власти. Ускорился процесс перевода делопроизводства на русский и бурятский языки, значительно возрос уровень политической культуры местного населения. Многие представители коренной национальности республики именно в эти годы получили образование в высших и специальных учебных заведениях. В эти же годы начали интенсивнее развиваться образование и культура бурят.