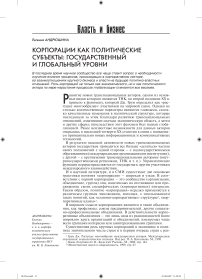Корпорации как политические субъекты: государственный и глобальный уровни
Бесплатный доступ
В последнее время научное сообщество все чаще ставит вопрос о необходимости изучения влияния процессов, происходящих в корпоративном секторе, во взаимоотношениях крупного бизнеса и власти на будущее политико-властных отношений. Роль корпораций не только как экономического, но и как политического актора по мере нарастания процессов глобализации становится все весомее.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164196
IDR: 170164196
Текст обзорной статьи Корпорации как политические субъекты: государственный и глобальный уровни
коРпоРаЦии как политические субъекты: госудаРственный и глобальный уРовни
В последнее время научное сообщество все чаще ставит вопрос о необходимости изучения влияния процессов, происходящих в корпоративном секторе, во взаимоотношениях крупного бизнеса и власти на будущее политико-властных отношений. Роль корпораций не только как экономического, но и как политического актора по мере нарастания процессов глобализации становится все весомее.
Р азвитие новых транснациональных акторов, одним из основных видов которого являются ТНК, во второй половине XX в. привело к феномену, который Дж. Грум определил как «растущее многообразие»1 участников на мировой сцене. Однако не столько количественные параметры являются главными, сколько качественные изменения в политической структуре, которые последовали за этим благодаря развитию транснациональных отношений, охвативших сначала экономическую область, а затем и другие сферы; впоследствии этот феномен был назван глобализацией. Р-анее неизвестные возможности для данных акторов открылись в последней четверти XX столетия в связи с появлением принципиально новых информационных и коммуникативных технологий.
В результате высокой активности новых транснациональных акторов государствам приходится все больше «делиться» частью своих полномочий с одной стороны – с надгосударственными образованиями (международными организациями и институтами), с другой – с крепнущими транснациональными акторами (внутригосударственными регионами, ТНК и т. п.). Управленческие функции перераспределяются от государства к другим участникам международного взаимодействия.
И в научной литературе, и в СМИ существуют две основные трактовки понятия «корпорация» – широкая и узкая. В соответствии с первой корпорация – это сообщество (организация, объединение, группа) лиц, нацеленных на отстаивание или продвижение своих специфических (корпоративных) интересов. Таким образом, понятие «корпорация» нередко применяется к различным группам чиновников, военных, с ипользованием таких понятий, как «кланово-корпоративные» структуры2, «корпоративные кланы»3.
АНДРюшИНА Евгения
Владимировна – к. п. н, кафедра политического анализа факул ьтета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова
В широком смысле корпорациями являются и такие объединения, как профсоюзы, союзы предпринимателей, другие социально-профессиональные объединения. В действительности корпоративные объединения – это лишь одна из разновидностей более широкого круга организаций и объединений, именуемых чаще всего группами интересов или заинтересованными группами.
Существенная роль крупных корпораций в экономике и политике значительного числа стран и в первую очередь стран с раз- витой рыночной экономикой обозначилась еще в начале ХХ века. Именно тогда появились слова «монополия», «монополистический капитализм» и стали применяться меры по ограничению экспансии крупного бизнеса, подрывавшей основы рыночной конкуренции. Особенно большой интерес к корпоративной проблеме проявили ученые США-, где несколько сот крупнейших корпораций превратились в «сердцевину индустриальной сис-темы»1.
Оценивая будущую роль корпораций в мировой экономике и политике, Дж. Гэлбрейт писал, что «масштаб деятельности крупнейших корпораций должен приближаться к масштабу деятельности государства», так как одной из характерных черт обеих организаций является то, что они выступают в качестве «источника власти»2.
В современном мире ТНК представляют собой бизнес-структуры, деятельность которых охватывает несколько стран. Подобные корпорации набирают силу не только в экономическом, но геополитическом плане – если какие-то десятилетия после окончания Второй мировой войны доминировали компании, имеющие американское происхождение, то потом явную конкуренцию им составили европейские и японские, а теперь еще и корейские. С 1980-х годов основной стратегией многих ТНК становится производство компонентов в различных частях Земного шара.
Крупнейшие ТНК обладают огромными экономическими ресурсами, дающими им преимущества в этом отношении не только перед малыми государствами, но нередко перед средними и даже великими державами. Так, например, объем зарубежных продаж фирмы «Эксон» к середине 1970-х годов достиг свыше 30 млрд. долларов, что превысило объем ВНП такой экономически развитой страны, как Швейцария, и лишь немногим уступало ВНП Мексики3. Это дает ТНК возможность оказывать существенное воздействие в своих интересах и на политическую сферу – как в странах базирования, так и в мире в целом.
ТНК – явление достаточно противоречивое. Они, несомненно, способствуют модернизации стран базирования, развитию их народного хозяйства, распространению ценностей и традиций экономической свободы и политического либерализма. Одновременно они несут с собой и социальные потрясения, связанные со структурной перестройкой, интенсификацией труда и производства; новые формы господства и зависимости – экономической, технологической, а нередко и политической. В ряде случаев последствия их деятельности ведут к дальнейшему обострению уже имеющихся и возникновению новых экологических проблем, к разрушению национальных традиций, конфликту культур. Так же бесспорно и то, что ТНК усиливают экономическую взаимозависимость и единство мира в хозяйственном отношении, способствуют созданию предпосылок для становления единой глобальной культуры как планетарного, общецивилизационного явления. И это тоже приносит неоднозначные результаты, что и вызывает критику ТНК со стороны различных идейно-теоретических течений. В определенной мере результатом подобной критики явились попытки международного сообщества ввести некоторые ограничения для деятельности транснациональных корпораций, подчинив ее определенным правилам, некоему «кодексу поведения», однако усилия, предпринятые с этой целью в рамках ОЭСР- и ООН, не увенчались успехом.
Экономические процессы, контролируемые ТНК, охватывают большую часть мировой торговли, финансовых обменов и передач передовых технологий. Указанные процессы способствовали ускоренной экономической интеграции в Е-вропе, А-мерике и А-зии, усилению конкуренции и в то же время взаимозависимости между главными экономическими регионами современного мира. Вместе с тем они имели не менее серьезные последствия и политического характера.
Наиболее значимыми среди этих последствий, вызвавшими эпохальные изменения в облике современного мира и характере международных отноше- ний, явились кризис в СССР-, распад «мировой социалистической системы», а затем и разрушение Советского Союза со всеми его результатами для Р-оссии и других бывших союзных республик.
Таким образом, ТНК обладают определенной автономией в своих решениях и деятельности, способны вносить изменения в международные отношения, учитываются государствами в их внешней политике, то есть отвечают всем признакам влиятельного международного политического субъекта. Начиная с 1970-х годов крупнейшие транснациональные корпорации стали именоваться государствами в государстве, а с развитием глобализации самые авторитетные обществоведы-политологи заговорили о «корпоративном перевороте» и даже о «корпоративном тысячелетии». Все чаще и настойчивее ставится вопрос о воздействии корпоративного сектора на будущее демократии и гражданского общества.
В странах с развитой рыночной экономикой и устоявшимся корпоративным сектором политическое участие корпораций имеет уже давнюю историю, а также отработанные формы и методы такого участия.
В теории они описаны такими исследователями, как П. Дракер, Дж. Гэлбрейт, Э. Эпштейн.
Подробно анализируя бизнес-струк-туры как «политический институт», П. Дракер указывает на то, что «менеджеры всегда стремятся понять интересы политиков и сотрудничать с ними». Причем менеджер ни в коем случае не должен ограничиваться «реакцией» на действия политиков1.
Дж. Гэлбрейт в книге «Новое индустриальное общество» отмечает: «Зрелая крупная корпорация становится по мере своего развития частью крупного административного комплекса, связанного с государством. Пройдет время, и граница между этими институтами исчезнет». В более поздней работе он пишет о корпорации уже не как об «удлиненной руке государства», а как об институте, который осуществляет «серьезное использование власти над законодателями и публичными официальными лицами, либо культивируя приверженность к ее интересам и целям, либо путем непосредственного или косвенного влияния». Главный тезис в его книге – тезис об угрозе концентрации власти в руках военщины и корпораций. «Корпоративная власть опасна», – заявляет он уже в предисловии к книге.
Центральное место в исследовании известного американского политолога Э. Эпштейна занимает анализ основных направлений политической деятельности корпораций, начиная с отношений с правительством и конгрессом и кончая их участием в электоральном процессе. Е-го главный вывод состоит в том, что при всех издержках политического участия корпоративного капитала крупные фирмы – «необходимый и легитимный участник политического процесса, скорее способствующий поддержанию плюралистической демократии в А-мерике, нежели подрывающий ее»2.
На практике условно можно говорить о существовании двух систем, в рамках которых реализуется политическое участие корпораций в странах Запада: система функционального представительства и партийно-парламентская система.
Ч-то касается партийно-парламентской системы, то ее главные элементы – избиратели, партии и парламенты или другие представительские учреждения. В ее основе – территориальное представительство партий, осуществляемое через выборы.
Главными участниками системы функционального представительства являются уже не партии, формулирующие свои программы по всему спектру социальноэкономических и политических проблем, а группы и организации, добивающиеся решения властей либо в интересах отдельных групп населения, либо по тем или иным конкретным вопросам, имеющим общественно значимый характер. Эти организации носят, таким образом, не общеполитический характер, а замыкаются на ту или иную общественно значимую функцию или интерес.
Существенное место в системе функционального представительства принадлежит неформальному взаимодействию общественных и властных структур – лоббизму.
При анализе российской практики следует отметить, что будучи влиятель нейшей гр уппой интересов и весомым
«политическим актором», крупные российские корпорации задействованы во всех основных структурах политической власти – президентской, правительственной, законодательной, а также региональной и местной.
Исследуя политическое взаимодействие корпораций на уровне президента и его администрации, надо отметить, что провозгласив почти сразу после победы на президентских выборах 2000 г. принцип равноудаленности от представителей как «большого», так и малого бизнеса, В. Путин уже в скором времени был вынужден внести существенные поправки в эти установки.
Так, использование административного ресурса помогло в 2000–2001 годах некоторым компаниям и бизнес-группам и прежде всего «Сибнефти», «Сибирскому алюминию», «А-льфе» и «МДМ» осуществить далекоидущие вторжения в металлургическую, энергетическую, машиностроительную и другие отрасли экономики.
Тенденция к институционализации отношений президент – «большой бизнес» начала оказывать все более непосредственное влияние на процесс принятия государственных решений, причем отнюдь не только текущего, «разового» порядка. Наиболее влиятельная часть корпоративного капитала не просто лоббировала свои сиюминутные интересы, но и напрямую участвовала в определении ключевых направлений общественно-политического развития страны.
Отражением новых тенденций в отношениях корпоративного капитала и высшей исполнительной власти явилось дальнейшее ослабление позиций крупных бизнес-структур в сфере массовых коммуникаций и прежде всего на телевидении. Таким образом, та модель взаимодействия бизнеса и власти, которая утвердилась в 2000–2003 гг., была сломана, и президент взял курс на создание более жесткой системы отношений с олигархами и крупным бизнесом в целом.
Эти изменения имели для отношений корпораций с правительством последствия двоякого рода: с одной стороны – многие компании, особенно обладавшие не слишком весомым административным ресурсом, лишались серьезного рычага воздействия на систему выработки и принятия касающихся их государственных решений. Р-оль и значение отраслевого лоббизма как основной формы представительства интересов в исполнительной власти существенно снизилась или переместилась на местный уровень.
Однако с другой стороны – лоббизм наиболее крупных корпораций пришлось поднимать на более высокий уровень. В первую очередь необходимость в этом ощутили нефтяные корпорации.
Отношения корпораций с законодательными органами характеризуются прежде всего активной лоббистской деятельностью. Но в отличие от органов исполнительной власти здесь наблюдается тенденция ко все более непосредственному представительству отдельных корпораций. В течение 1990-х годов налицо был рост прямого участия крупнейших корпораций в самом процессе выборов в Думу, когда они стали фактически выступать в роли своего рода «электоральных машин».
Изменение принципов комплектования Совета Федерации стимулировало приток представителей «большого бизнеса» и в этот законодательный орган. Одним из факторов, способствующих этому, является слабость партий и партийного представительства, что позволяет корпоративной элите брать на себя не только лоббистские, но и квазипартийные функции.
При всей сложности и многоплановости отношений корпоративного капитала и власти, специфике этих отношений на разных уровнях можно констатировать глубокое проникновение корпоративных структур практически во все институты власти. Отношения государство – корпорации условно могут быть описаны двумя тенденциями: во-первых, отношениями партнерства (согласования интересов, используя терминологию С. П. Перегудова), во-вторых, созданием на всех уровнях крупных государственночастных корпораций полуавтономного характера.
Таким образом, в настоящее время корпорации являются одним из наиболее значимых участников в политическом процессе как национального, так и глобального масштабов, причем степень их влияния все больше возрастает, а сами крупные корпорации практически сливаются с государственными структурами.