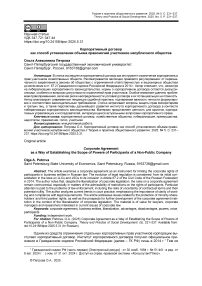Корпоративный договор как способ установления объема правомочий участников непубличного общества
Автор: Петрова О.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется корпоративный договор как инструмент ограничения корпоративных прав участников хозяйственных обществ. Рассматривается эволюция правового регулирования: от первоначального закрепления в законах об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах до включения в ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в 2014 г. Автор отмечает, что, несмотря на либерализацию корпоративного законодательства, нормы о корпоративном договоре остаются дискуссионными, особенно в вопросах допустимости ограничений прав участников. Особое внимание уделено проблемам правоприменения, включая риски неопределенности условий договора и их потенциальную ничтожность. Автор анализирует современные тенденции судебной практики, подчеркивая важность четкости формулировок и соответствия законодательным требованиям. Статья затрагивает вопросы защиты прав миноритариев и третьих лиц, а также перспективы дальнейшего развития института корпоративного договора в контексте либерализации корпоративного законодательства. Материал представляет ценность для юристов, корпоративных управляющих и исследователей, интересующихся актуальными вопросами корпоративного права.
Корпоративный договор, хозяйственные общества, либерализация, преимущества, недостатки, правомочия, голос, участники
Короткий адрес: https://sciup.org/149148044
IDR: 149148044 | УДК: 347.721:347.44 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.31
Текст научной статьи Корпоративный договор как способ установления объема правомочий участников непубличного общества
Одним из средств ограничения отдельных корпоративных прав участников корпорации выступает корпоративный договор. Институт корпоративного договора получил официальное признание в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) лишь в 2014 г.1 Тем не
-
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) [Электронный ресурс] : от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : в ред. от
менее практика заключения договоров между участниками коммерческих организаций возникла значительно раньше. Так, изначально были внесены изменения в Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которым участники получили право заключать соглашения, регулирующие порядок реализации принадлежащих им корпоративных прав1. Затем аналогичная норма появилась и в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»2. Таким образом, до принятия соответствующих законодательных положений отношения сторон регулировались исключительно принципом договорной свободы.
Несмотря на продолжительный период существования, правовая природа корпоративного договора продолжает вызывать дискуссии в научной среде. Как отмечает Д.В. Ломакин (2006: 27), данный институт обрастает многочисленными мифами и заблуждениями, одним из которых является ошибочное представление о возможности участия самой корпорации в качестве стороны соглашения.
Корпоративный договор возник вследствие процесса реформирования российского корпоративного законодательства, направленного на повышение привлекательности страны для инвесторов путем упрощения регулирования корпоративных отношений. Долгое время такие соглашения формировались преимущественно на основании иностранных правовых норм. После внесения изменений в ГК РФ в виде ст. 67.2 стало возможным активно развивать национальные механизмы регулирования, установленные ранее законами о хозяйственных обществах (Гуте-нева, 2024: 109)
При заключении корпоративного договора участники обязуются ограничивать использование своих корпоративных полномочий либо заранее согласовывать условия их реализации. Договор включает две основные составляющие: управленческую – устанавливающую правила поведения участников, распорядительную – определяющую порядок отчуждения долей или акций. Распорядительная часть допускает применение различных юридических конструкций, включая опционы на покупку или продажу ценных бумаг (Гентовт, 2021б: 30). Корпоративный договор устанавливает обязанности участников по отношению друг к другу, например определяет порядок голосования или ограничения на распоряжение долями участия, однако не влечет возникновения общей собственности на активы юридического лица.
Несмотря ни на что, корпоративный договор остается эффективным юридическим инструментом, широко применяемым при создании хозяйственного общества несколькими учредителями. Его цели – защита интересов участников, совершенствование системы корпоративного управления, минимизация рисков корпоративных споров. Как подчеркивает Конституционный Суд РФ, назначение корпоративного договора заключается в укреплении правовой ясности, обеспечении устойчивости экономических сделок и достижении справедливого равновесия интересов сторон3.
Ключевым элементом корпоративного договора выступает регламентация порядка реализации участниками своих членских прав. Принципиальное значение имеет четкая конкретизация этих прав в тексте соглашения, поскольку их размытая формулировка трансформирует договор в декларацию о намерениях, не порождающую юридически значимых обязательств. Для квалификации соглашения в качестве корпоративного договора необходимо наличие следующих важных условий:
-
– согласованный механизм реализации корпоративных прав;
-
– порядок взаимодействия участников в процессах управления компанией;
-
– процедуры принятия решений на всех этапах существования общества (от создания до ликвидации).
Особое внимание следует уделить критерию исполнимости договорных условий. Невозможность реального исполнения положений соглашения с момента его заключения влечет ничтожность такого договора. Аналогичные последствия наступают при наличии существенной неопределенности в обязательствах сторон, что дает основания для судебного оспаривания факта заключения договора (Черепахин, 2001: 107).
При этом судебная практика выработала дифференцированный подход:
-
1) к договорам с изначально неисполнимыми условиями;
-
2) к соглашениям с недостаточно определенными обязательствами.
В первом случае применяется механизм признания договора недействительным, во втором – может быть поставлен вопрос о его незаключенности ввиду несогласованности существенных условий.
В одном деле суд первой инстанции отклонил иск о взыскании денежных средств за несоблюдение условий корпоративного договора, посчитав, что сам договор не заключен из-за неопределенности его предмета. Формулировки документа оказались недостаточными для понимания, каким образом стороны договорились осуществлять свои права и обязанности. Между тем апелляционный суд занял более гибкую позицию, отметив, что неясность предмета сама по себе не служит основанием для признания договора недействительным. Суд сослался на фактическое исполнение договора и посчитал допустимым определение его предмета через воздержание от осуществления лицом поименованного ряда прав участника общества1.
Проблематика данной темы заключается в изучении вопросов законности ограничений корпоративных прав сторон, предусмотренных условиями корпоративного договора. Рассматриваемое соглашение существенно сужало полномочия одного из участников, фактически лишая его возможности полноценно участвовать в деятельности общества, влиять на управление организацией и извлекать доход. Это ставило под сомнение реализацию участником всех предоставленных законом корпоративных возможностей.
В юридической литературе высказывается мнение, что условия, существенно ограничивающие корпоративные права, должны признаваться ничтожными (Козлова, Филиппова, 2023: 37).
Корпоративный договор способен создавать основу для урегулирования специфических ситуаций («особых вопросов»). В частности, стороны могут зафиксировать в договоре обязательство голосовать за внесение в устав акционерного общества положений, устанавливающих специальные процедуры для рассмотрения стратегических вопросов (Гентовт, 2021а).
Для непубличных акционерных обществ законодательство предусматривает значительную свободу в определении внутренних процедур. В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, участники непубличного общества могут единогласно утвердить уставные положения, отступающие от стандартного порядка: о созыве и проведении общих собраний, подготовке и принятии решений таких собраний при условии сохранения гарантированных прав акционеров на участие в собраниях и доступ к информации.
Для публичных акционерных обществ в отличие от непубличных действуют более строгие правила. Устав такого общества не может устанавливать увеличенные кворумные требования, превышающие законодательные нормы. Подобные положения признаются недействительными, поскольку противоречат принципам прозрачности и единообразия корпоративного управления, обязательным для публичных акционерных обществ.
Все ограничения, устанавливаемые корпоративным договором, условно можно разделить на два вида: ограничение прав из доли (акции) и ограничение прав на долю (акцию). В первом случае речь идет об установлении объема прав участника непропорционально величине его вклада в уставный капитал корпорации, во втором – об ограничении права на приобретение или распоряжение акциями и долями в уставном капитале2.
Одним из ключевых видов договорного ограничения является ограничение корпоративных прав, связанных с владением долей (акциями). Как уже отмечалось, такое ограничение выражается в установлении для участников непубличных хозяйственных обществ объема прав, не пропорционального размеру их долей в уставном капитале или количеству акций. Подобные ограничения позволяют:
-
– сохранить закрытый характер общества, предотвращая нежелательное участие третьих лиц;
-
– обеспечить баланс интересов между участниками, особенно при наличии конфликтующих групп;
-
– повысить гибкость управления, предоставляя дополнительные инструменты контроля.
Таким образом, ограничение прав, связанных с владением долей (акциями), является важным механизмом в корпоративных отношениях, позволяющим участникам непубличных обществ индивидуально регулировать свои права и обязанности с учетом специфики бизнеса.
До недавнего времени российская судебная практика исходила из того, что «корпоративные права участников корпорации, в отличие от гражданских прав и обязанностей сторон договора, не устанавливаются соглашением, а только осуществляются», а «…заключение акционерного соглашения не предполагает внесения изменений в реестр акционеров, так как не влияет на право владения акциями»1. Некоторые исследователи, опираясь на подобный подход, приходят к категоричному заключению: корпоративный договор нельзя считать действенным инструментом регулирования корпоративных отношений, поскольку он, по их мнению, не порождает, не изменяет и не прекращает корпоративные правоотношения между участниками общества, а также не оказывает влияния на их развитие (Кокорев, 2019). Однако такой вывод представляется спорным, поскольку корпоративный договор, даже не изменяя напрямую корпоративные правоотношения, способен существенно влиять на поведение участников, устанавливая дополнительные гарантии и механизмы контроля, что в конечном счете модифицирует фактическое содержание их взаимодействия.
Рассмотрим ситуацию, когда корпоративный договор определяет порядок осуществления прав на доли (акции), что может повлиять на динамику отношений между сторонами. Одним из механизмов ограничения корпоративных прав выступает установление в корпоративном договоре специальных условий, касающихся перехода прав на долю (акцию). Продажа доли одним из участников ведет к утрате прежних корпоративных связей продавцом и появлению новых обязательств у покупателя. Более того, корпоративный договор может выступать источником возникновения или прекращения корпоративных отношений в зависимости от конкретной ситуации.
Тенденция к либерализации корпоративного законодательства способствует расширению сферы применения корпоративных договоров. Как справедливо отмечает И.С. Шиткина, наблюдается усиление роли этого инструмента в регулировании корпоративных отношений (2018). В перспективе можно ожидать дальнейшего развития данного института с одновременной разработкой механизмов защиты прав миноритариев и других заинтересованных лиц.
Современное гражданское законодательство России, стремясь к гибкости регулирования корпоративных отношений, допускает возможность изменения объема правомочий участников хозяйственных обществ посредством не только устава, но и договора между ними (ст. 66 ГК РФ). Данная новация представляет собой отход от классического принципа пропорциональности долей, который традиционно закреплялся в уставных документах. Введение договорного механизма регулирования прав участников имеет как преимущества, так и недостатки, анализ которых представляет значительный научный и практический интерес.
На практике до недавнего времени отсутствовал даже механизм реализации возможностей, предоставленных в абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК РФ. В соответствии с данной нормой, а также с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в ЕГРЮЛ должны быть внесены сведения о договоре, предусматривающем иной объем правомочий участников непубличного общества2. В реестре необходимо отражать как установленный договором объем прав участников (включая количество голосов, закрепленных за их долями, если оно не пропорционально размеру этих долей) (подп. л.1), так и ограничения и условия отчуждения долей (акций) (подп. л.2).
Изменения в ЕГРЮЛ вносятся исключительно на основании заявлений, форма которых утверждается ФНС России. Длительное время суды придерживались позиции, согласно которой отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о корпоративном договоре, предусматривающем непропорциональное распределение прав, влечет недействительность соответствующих положений договора3.
Особого внимания заслуживают ограничения первого вида, касающиеся главным образом регламентации процедуры голосования участников корпорации. Практика показывает, что большинство корпоративных договоров содержат императивные нормы, обязывающие стороны придерживаться заранее согласованной позиции при голосовании на общих собраниях. Парадоксальным образом при возникновении корпоративных конфликтов такие договорные условия нередко становятся предметом правовых споров. Участники могут оспаривать их законность, ссылаясь на недопустимость ограничения правоспособности, установленную ст. 22 ГК РФ (Румак, 2019). В подобных ситуациях возникает принципиальный вопрос о границах допустимого самоограничения корпоративных прав.
Судебная практика демонстрирует двоякий подход к данной проблематике. С одной стороны, признается право участников добровольно принимать на себя определенные обязательства; с другой – подчеркивается недопустимость установления абсолютных ограничений, фактически лишающих участника возможности реализовывать свои корпоративные права.
Особую сложность представляет определение той грани, за которой договорное самоограничение превращается в недопустимое ограничение правоспособности. Этот вопрос остается дискуссионным как в доктрине, так и в судебной практике.
В одном из рассмотренных дел истец подал иск, утверждая, что условия корпоративного договора, требующие от него голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, незаконно сужают его права как участника общества1. Суд отклонил иск, указав, что суть корпоративного договора заключается в том, что участники добровольно ограничивают свои корпоративные права и принимают обязательства использовать их с учетом интересов других участников. Практика судебных решений подтверждает законность подобных ограничений.
В юридической практике нередко возникают споры относительно ограничений правоспособности, устанавливаемых корпоративными договорами. Ярким примером является запрет на отчуждение доли в уставном капитале, сформулированный в бессрочной и абсолютной форме. Такое условие признается неправомерным, поскольку законодательство допускает лишь временные ограничения права распоряжения долями, связанные с конкретными обстоятельствами (например, до наступления определенного события или выполнения условий). Абсолютный запрет рассматривается как недействительный, поскольку он необоснованно сужает правоспособность участников, выходя за рамки разумного баланса интересов2.
Определение границы между допустимым ограничением прав и их неправомерным ущемлением требует комплексного подхода:
-
– буквальное толкование договора – необходимо, но недостаточно;
-
– анализ фактических обстоятельств – важно учитывать реальные возможности сторон и контекст их взаимоотношений;
-
– соответствие закону – ограничения не должны противоречить императивным нормам права.
Правильно составленный корпоративный договор обеспечивает следующие возможности: – позволяет участникам реализовывать свои права без неоправданных препятствий;
-
– гарантирует защиту интересов всех сторон;
-
– сохраняет баланс между свободой договора и соблюдением правоспособности.
Следовательно, корпоративный договор служит инструментом осознанного и взвешенного ограничения правомочий, базирующегося на принципах добровольности и соразмерности. Его четкие, обоснованные условия должны соответствовать законодательным требованиям, чтобы избежать признания их недействительными.
Далее выделим преимущества договорного регулирования объема правомочий участников.
-
1. Гибкость корпоративного управления. Допущение договорного изменения прав участников позволяет более точно учитывать их индивидуальные интересы и вклад в деятельность общества. Это особенно актуально для небольших компаний и стартапов, где распределение прав может зависеть не только от размера доли, но и от личного участия, экспертизы или дополнительных обязательств сторон.
-
2. Снижение транзакционных издержек. Внесение изменений в устав требует соблюдения формальных процедур, включая государственную регистрацию. Договорной порядок, в свою очередь, позволяет оперативно корректировать права участников без бюрократических сложностей, что способствует динамичному развитию бизнеса.
-
3. Расширение автономии воли участников. Принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) получает дальнейшее развитие, позволяя сторонам самостоятельно определять баланс прав и обязанностей. Это соответствует современным тенденциям диспозитивного регулирования корпоративных отношений.
-
4. Возможность индивидуализации правового статуса участников. В отличие от жесткой привязки прав к размеру доли договорной механизм позволяет устанавливать особые условия
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 12 марта 2021 г. по делу № А40-123456/2020 суд признал правомерным соглашение участников ООО, в котором один из них, владея долей в 30 %, получал право вето на ключевые решения, несмотря на отсутствие такого положения в уставе. Суд указал, что статья 66 ГК РФ допускает изменение объема правомочий договором, если это не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц3. Таким образом, суды в целом поддерживают договорную свободу в рамках ст. 66 ГК РФ, но проверяют условия на добросовестность.
(например, право вето, дополнительные голоса, особые права на прибыль), что может стимулировать инвестиционную активность.
Если говорить о недостатках и рисках договорного регулирования, можно выделить следующие.
-
1. Усложнение структуры корпоративных отношений. Множество индивидуальных договоров между участниками может привести к противоречиям в их правах и обязанностях, что усложнит управление обществом и повысит риски корпоративных конфликтов.
-
2. Проблемы защиты прав третьих лиц. Если устав остается основным публичным документом, а договоры участников носят закрытый характер, контрагенты и потенциальные инвесторы могут столкнуться с неочевидными ограничениями или особыми правами участников, что снижает прозрачность бизнеса.
-
3. Риски злоупотреблений. Договорной механизм может использоваться для установления дискриминационных условий в отношении отдельных участников, особенно миноритариев. Отсутствие жестких законодательных рамок повышает опасность включения в договоры кабальных положений.
-
4. Сложность правоприменения и судебных споров. В случае конфликтов судам придется анализировать не только устав, но и сеть внутренних соглашений, что может затруднить толкование воли участников и повысить нагрузку на судебную систему.
В Определении от 20 июля 2018 г. № 305-ЭС18-1234 (хотя оно вынесено до актуальных изменений, принцип остается релевантным) Верховный Суд РФ отразил ситуацию, где устав предусматривал пропорциональное распределение голосов, а корпоративный договор – иное. Суд встал на сторону договора, указав, что внутренние соглашения имеют приоритет, если не затрагивают интересы кредиторов1 . В связи с данным примером могут возникнуть различия между корпоративным договором и уставом, что приводит к запутыванию корпоративных отношений в хозяйственных обществах.
Образовалась судебная практика, которая показывает, что особую защиту получают миноритарии и кредиторы, чьи интересы не могут быть устранены соглашением. В одном деле Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 10 апреля 2021 г. № Ф09-5678/21 отказал в иске участнику, пытавшемуся через договор исключить свою ответственность по долгам общества. Суд отметил, что свобода договора (ст. 56 ГК РФ) не может отменять императивные нормы о субсидиарной ответственности (ст. 56 ГК РФ)2.
Примером этого является решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 ноября 2020 г. по делу № А56-78901/2019, признавшее недействительным пункт договора между участниками, который обязывал одного из них продавать долю по заниженной цене в случае выхода. Суд квалифицировал это как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), поскольку условие явно нарушало баланс интересов3.
Введение возможности изменения объема правомочий участников не только уставом, но и договором (ст. 66 ГК РФ) отражает стремление законодателя к диверсификации инструментов корпоративного управления. Однако данная новация требует взвешенного подхода: с одной стороны, она способствует гибкости и адаптивности хозяйственных обществ; с другой – создает риски снижения прозрачности и увеличения конфликтности. Для минимизации негативных последствий целесообразно развитие судебной практики и, возможно, введение дополнительных гарантий защиты прав участников, особенно миноритарных.
Таким образом, законодательство устанавливает различные ограничения в хозяйственных обществах для соблюдения баланса интересов их участников. Корпоративный договор служит диспозитивным инструментом, позволяющим сторонам самостоятельно регулировать свои имущественные и неимущественные права, минимизируя риски возникновения споров.