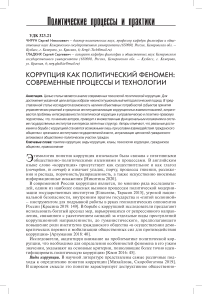Коррупция как политический феномен: современные процессы и технологии
Автор: Чирун С.Н., Гладких С.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ современных технологий политической коррупции. Для достижения указанной цели авторы избрали неоинституциональный методологический подход. В представленной статье исследуется возможность наличия объективных потребностей субъектов принятия управленческих решений в процессах институционализации коррупционных взаимоотношений. затрагиваются проблемы интегрированности политической коррупции в управленческую и политико-правовую подсистемы, что, по мнению авторов, приводит к множественным функциональным искажениям в системе государственных институтов в интересах латентных структур. Авторы отмечают, что реальные достижения в борьбе с коррупцией становятся возможными лишь при условии взаимодействия гражданского общества с органами и институтами государственной власти, актуализации ценностей гражданского активизма в общественно-политическом участии граждан.
Понятие коррупции, виды коррупции, кланы, технологии коррупции, гражданское общество, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170200519
IDR: 170200519 | УДК: 323.21 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9683
Текст научной статьи Коррупция как политический феномен: современные процессы и технологии
Э тимология понятия коррупция изначально была связана с негативными общественно-политическими явлениями и процессами. В английском языке слово «коррупция» присутствует как существительное и как глагол ( corruption , to corrupt ) и означает упадок, порчу, процессы гниения, разложения и распада, порочность/развращенность, а также искусственно вносимые информационные искажения [Никитина 2020].
В современной России коррупция является, по мнению ряда исследователей, одним из наиболее опасных вызовов процессам политической модернизации государственных институтов [Елисеева, Тарасов 2015], угрозой национальной безопасности, внутренним врагом государства и «пятой колонной» – инструментом для подрывной работы в руках геополитических оппонентов России [Красина 2019: 149]. В борьбе с коррупцией исследователи предлагают использовать богатый арсенал мер, варьирующихся от репрессивного направления, связанного с ужесточением санкций за отдельные виды преступлений коррупционной направленности, до гуманистического, предполагающего повышение роли институтов гражданского общества «в осуществлении демократических перемен и мобилизации общественных сил для противодействия коррупции» [Арзуманян 2018: 40].
Исследователи, акцентируя внимание на проблематике политической коррупции, что необходимо для определения особенностей феномена в его узком значении, указывают на основные критерии, позволяющие более точно идентифицировать политическую коррупцию [Квон 2016: 45].
Виды коррупции. В научной литературе представлены самые различные подходы к определению понятия коррупции [Михайлова, Скоробогатова 2019]. В широком смысле это понятие характеризует деструктивное общественно- политическое явление, связанное с использованием агентами (это прежде всего государственные и муниципальные служащие) своего административного ресурса [Очирова 2015:105], часто связанного с системой госзакупок [Замиралова, Бубнов 2022: 112]. Отметим, что даже узко юридическая квалификация коррупции предполагает наличие множества определений данного явления [Вершицкая 2017: 21]. В частности, исследователи выделяют низовую (повседневную, бытовую) и элитарную коррупцию [Трунцевский 2018: 159]. Элитарная коррупция является по своим последствиям наиболее деструктивной и разрушительной для общества и государства [Трунцевский, Цирин 2022: 93].
Основанием для выделения политической коррупции является получение ренты должностным лицом, достигаемое за счет неправомерного использования административных ресурсов для получения власти латентными структурами [Соловьев, Миллер 2017]. События на Украине формируют обновленные стандарты реализации коррупционных схем на глобальном уровне. В качестве примера можно привести коррупционный скандал на Украине, связанный с сыном действующего американского президента1.
В России наблюдаются два основных подхода к идентификации феномена коррупции. Первый подход характеризует коррупцию как феномен продажности (взяточничества) должностных лиц [Семыкина 2016]. Второй подход получил мировое признание, и он отличается значительно большей гибкостью. В соответствии с этим подходом коррупция проявляется в использовании лицом, принимающим управленческие/политические решения (ЛПР), служебного положения в целях получения ненадлежащей личной выгоды.
Технологии коррупции . Все коррупционные технологии можно условно разделить на активные и пассивные.
Исследования последних лет показывают, что в дотационных регионах с общей негативной динамикой социально-экономических процессов в региональном социуме сформировалась система двойных стандартов в отношении коррупционного поведения, «когда собственное коррупционное поведение не имеет негативную окраску и считается вынужденным, а чужое оценивается в качестве общественно опасного деяния» [Агишев, Манаева 2021].
Мотивы коррупционного поведения могут быть связаны не только с интересами профессиональных, но и тех референтных групп, с которыми чиновник себя отождествляет. Это могут быть расовые, этнические группы или землячества, идеологические и партийные группы, а также различные меньшинства, в т.ч. и сексуальные. Так, например, группы сексуальных меньшинств становятся реальной проблемой для Евросоюза и США, поскольку данный мотив коррупционного поведения ведет к десакрализации самих цивилизационных основ национальной государственности.
Что касается публичной политики, то здесь коррупционные технологии не являются уникальным продуктом, но скорее представляют собой коррупционную модификацию достаточно известных и популярных политических технологий, получивших широкую известность и признание в таких прикладных направлениях политической науки, как политический лоббизм, PR (связи с общественностью), GR (связи с органами государственной власти), имиджмей-кинг (работа над имиджем политика/управленца), политический маркетинг, политический консалтинг, политический менеджмент и др. Отдельное направ- ление связано с использованием в публичной политике так называемого административного ресурса. Данный вид коррупции может находить проявление в разнообразных злоупотреблениях. В процессе осуществления избирательной компании действующий представитель исполнительной ветви власти накануне выборов заявляет о предоставлении избирателям неких социальных благ, т.е. используется латентный подкуп избирателей.
На региональном или муниципальном уровне в 1990-х гг. применялись довольно примитивные модели подкупа избирателей. Это могла быть раздача спиртного, одежды либо продуктов питания. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), начиная с 90-х гг. XX в. и до сих пор, практикует массовые раздачи продуктов питания, одежды и предметов быта как метод привлечения электората. Сегодня, как правило, это вещи, продукты и предметы повседневного быта: чай, майки, бейсболки, кружки, канцелярские и спортивные принадлежности. Отметим, что качество вещей, раздаваемых активистами ЛДПР, является крайне низким и может заинтересовать лишь самые непритязательные категории населения.
Но подкуп как технология не ограничивается только лишь передачей денег или прочих материальных благ. Например, жители не поддержали на выборах кандидата от администрации (правительства) города (региона) в муниципалитет либо в региональный представительный орган власти и, в итоге, остались без ремонта, без газа, без детских площадок и т.д.
Возможно и применение административного давления, которое может выражаться в прямом принуждении к электоральному выбору за определенного кандидата, сопровождающемся угрозами увольнения (сотрудников) либо отчисления (в случае со студентами).
Также к административному давлению можно отнести и те фальсификации, которые случаются в избирательных и счетных комиссиях. Здесь нужно учитывать, что сами избирательные комиссии, как правило, контролируются региональной властью, а значит потенциально могут выступать в качестве инструмента административного давления на оппозиционных кандидатов.
В процессе технологизации коррупционных практик в управленческих системах формируются структуры, представляющие основания для выстраивания глубоко латентных связей [Миллер 2016: 88]. Такие латентные коалиции неоднородны по своему составу. Основу их составляет ядро, состоящее из наиболее статусных персон, осуществляющих планирование, функцию внутреннего контроля и распределяющих коррупционную ренту между членами сообщества.
В последние десятилетняя наблюдается коррупционный транзит на более высокий системный уровень, где происходит симбиоз коррупционных сетей с государственными институтами.
«Рынок бюрократических услуг». Такого рода коррупция проявляется как получение формально легальных вознаграждений, но значительно превышающих стоимость произведенного продукта или оказанных услуг. Например, это может быть оформлено как оплата за консультационные услуги или за прочтение научных лекций. Так, в 2011 г. И.В Пономарев, сын сенатора от Чукотского автономного округа и в прошлом близкой соратницы олигарха Р.А. Абрамовича Л.Н. Пономаревой, решил стать одним из лидеров оппозиционного «белоленточного» движения и начал позиционировать себя в качестве активного борца с коррупцией. Однако правоохранительные органы напомнили ему о его собственном коррупционном прошлом, в частности о контракте от 2010 г. с фондом «Сколково» на 750 тыс. долл., которые он кор- рупционным путем получил от фонда «Сколково», при этом не выполнив указанные в контракте работы1.
Также такого рода коррупция может проявляться в форме оплаты за публикацию научной работы, которая якобы является очень ценной и значимой для науки. Например, в конце 90-х гг. XX в. в СМИ активно обсуждался коррупционный скандал2, связанный с публикацией брошюры «История российской приватизации» за авторством А.Б. Чубайса и др., за которую авторы получили только аванс 450 тыс. долл. Причем сам А.Б. Чубайс в тот момент занимал на государственной службе высокие государственные должности первого заместителя премьер-министра и министра финансов РФ.
К этому же виду коррупции можно отнести услуги и разные «знаки внимания» по отношению к ЛПР. Это, в частности, может быть отдых на курорте или иное развлекательное времяпрепровождение, оплаченное за счет заинтересованной стороны. Например, в 1999 г. громкий коррупционный скандал, связанный с оплатой услуг «досуга» для ЛПР, привел к вынужденной отставке генерального прокурора РФ Ю.Н. Скуратова3.
«Управленец на систематическом кормлении у бизнеса». К этой группе коррупционных нарушений можно отнести открытые или завуалированные модели совмещения государственных и коммерческих должностей [Гахраманов 2017]; оказание государственными служащими прямых или косвенных услуг бизнес-структурам за разовые или системные формы вознаграждения; использование служебной тайны в интересах частного бизнеса; получение оплаты за оказание услуг, которые чиновник должен оказывать безвозмездно в соответствии со своим функционалом.
«Административное предпринимательство и административная монополия на оказание услуг». Данный вид коррупции может проявляться в различных формах. В годы приватизации новые коммерческие структуры создавались на базе материального фонда советских предприятий. Те должностные лица, которые руководили этими предприятиями в СССР, – так называемые красные директора, используя возможности своего должностного положения при попустительстве федерального центра добивались приватизации объектов в свою пользу.
Также часто применяется переориентация государственных заказов на определенный клановый (семейный) бизнес. Например, при бывшем губернаторе Кузбасса А.М. Тулееве (1997–2018) М.А. Макин работал заместителем губернатора, а на его супругу был записан совместный семейный бизнес, благодаря чему супруги Макины стали фактическими региональными монополистами [Чирун 2018]. Издержки от данной деятельности нес не только региональный бюджет, но и частные домовладельцы, поскольку стоимость большинства услуг коммунальной сферы для них оказалась значительно завышенной4.
«Бюрократический рэкет» представляет собой технологию, посредством которой реализуется массовое систематическое вымогательство денег у бизнеса. Часто такого рода деятельность осуществляется региональным руковод- ством под предлогом развития в регионе корпоративной социальной ответственности или благотворительности.
«Административное рейдерство». Административное рейдерство по форме реализации напоминает обычное рейдерство, но предполагает реальную поддержку или даже непосредственное участие в реализации коррупционной технологии со стороны административных структур. Так, в ноябре 2016 г. СКР возбудил дело о попытке рейдерского захвата АО «Разрез Инской» в Кемеровской обл. В итоге обвинение фигурантам коррупционного дела было предъявлено по ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство организованной группой в особо крупном размере.
Отметим, что такая распространенная в конце XX – начале XXI в. форма коррупции, как взятка, представленная в непосредственной передаче заинтересованному лицу конверта (дело бывшего губернатора Кировской обл. Н.Ю. Белых, 2009–2016) либо даже чемодана с деньгами, как в популярном политическом кейсе А.В. Улюкаева – И.И. Сечина, сегодня стала полным анахронизмом и уже не является актуальной коррупционной технологией, но зато она может рассматриваться как эффективная технология устранения/ ослабления влияния представителей конкурирующих административных кланов или групп интересов в политике.
Сегодня в тренде находятся иные виды коррупционных действий, связанные с корыстным использованием государственных и муниципальных средств: осуществление криминального лоббирования, реализация инвестирования коммерческих структур из средств госбюджета, содействие в регистрации фирм-однодневок, административное содействие изменению форм собственности, содействие предоставлению возможностей для экспорта стратегического сырья за границу и другие коррупционные формы и технологии, по которым достаточно сложно доказать вину подозреваемого.
Заключение. Коррупционная стигматизация оппонентов сегодня активно применяется в качестве технологии внутренней и внешней политики. Политические системы по-разному реагируют на коррупционные риски. Так, автократии, опираясь на возможности властной централизованной вертикали, казалось бы, имеют очевидные преимущества перед демократическими системами в вопросах осуществления результативного государственного антикоррупционного контроля. Однако мировая практика свидетельствует, что эти преимущества касаются исключительно рыночной коррупции, тогда как перед угрозой институциональной коррупции именно авторитарные системы являются наиболее уязвимыми.
К политической коррупции в современной России относятся специфические отношения власти и бизнеса. Такие отношения предполагают неформальное руководящее влияние административно-политической элиты на управление компаниями. Такого рода контакты сегодня приобрели существенную устойчивость и регулярность. Например, известны ситуации, когда родственники или близкие друзья чиновников получают собственные долевые пакеты в ответ на систематическое оказание административно-политических преференций бизнесу. Речь идет о регулярной практике использования институционального механизма предоставления «демонетизированных» услуг, которые значительно сложнее выявить и доказать их коррупционный характер.
В условиях формирующегося геополитического противостояния цивилизаций Востока и Запада обвинения в коррупции в адрес представителей национальной политической элиты, звучащие со стороны оппонентов российской государственности, имеют особо деструктивное значение. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, а также информацию об актуальных коррупционных технологиях, руководство страны должно максимально оптимизировать усилия для успешной борьбы с коррупцией. Это позволит России не только поднять международный авторитет, но и обрести новых союзников и партнеров в системе глобального управления, поскольку от этого в значительной мере будет зависеть не только эффективность, но жизнеспособность действующей модели организации российской государственности.
Список литературы Коррупция как политический феномен: современные процессы и технологии
- Агишев Р.Р., Манаева И.В. 2021. Коррупция и миллениалы: региональные практики поведения. - Власть. Т. 29. № 1. С. 22-29.
- Арзуманян И.Л. 2018. Возможно ли победить коррупцию? - Власть. Т. 26. № 5. С. 40-45.
- Вершицкая Г.В. 2017. Особенности правовой квалификации коррупционных правонарушений. — Вестник Поволжского института управления. Т. 17. № 1. С. 18-24.
- Гахраманов С.А.-о. 2017. Тоталитарные модели взаимоотношения власти и бизнеса: общее и различия. — Власть. Т. 25. № 3. С. 155-161.
- Елисеева С.Н., Тарасов И.Н. 2015. Коррупция как вызов политической модернизации в России. — Власть. Т. 21. № 8. С. 17-19.
- Замиралова Т.А., Бубнов А.Л. 2022. Проблема коррупции в процессе взаимодействия государства и бизнеса в системе государственных закупок. — Власть. Т. 30. № 2. С. 112-119.
- Квон Д.А. 2016. Политическая коррупция: понятие, цели, субъекты. — Власть. Т. 23. № 7. С. 45-52.
- Красина Е.А. 2019. Американские горки для России. Выстоять среди внешних и, главное, внутренних угроз. — Власть. Т. 27. № 4. С. 147-152.
- Миллер Т.В. 2016. Соотношение публичных и латентных структур в российской практике принятия политических решений. — Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. № 8. С. 80-89.
- Михайлова О.В., Скоробогатова А.В. 2019. Общество против коррупции: взгляд через призму принципал-агентской модели. — Социально-гуманитарные знания. № 4. С. 156-171.
- Никитина И.Н. 2020. Язык коррупции в английском деловом дискурсе. — Современные исследования социальных проблем. Т. 12. № 4-3. С. 163-169.
- Очирова В.М. 2015. Коррупция в России: состояние и перспективы. — Власть. Т. 22. № 9. С. 105-111.
- Семыкина О.И. 2016. Историческая обусловленность института предложения и обещания взятки. — Журнал российского права. № 4. С. 93-100.
- Соловьев А.И., Миллер Т.В. 2017. Латентная сфера политики: версия теоретической идентификации. — Государственное управление. Электронный вестник. № 63. С. 212-232.
- Трунцевский Ю.В. 2018. Бытовая (повседневная) коррупция: понятие и социальное значение. — Журнал российского права. № 1(253). С. 157-168.
- Трунцевский Ю.В., Цирин А.М. 2022. Государственная политика по противодействию коррупции: национальные инициативы. — Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. Т. 18. № 6. С. 87-98.
- Чирун С.Н. 2018. Проблемы функционирования регионального политического режима на примере Кемеровской области. — Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 44. С. 253268.