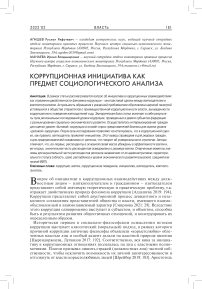Коррупционная инициатива как предмет социологического анализа
Автор: Агишев Руслан Ряфатевич, Манаева Ирина Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В рамках статьи рассматривается вопрос об инициативе в коррупционных взаимодействиях как отражении двойственности феномена коррупции - многоактовой сделки между взяткодателем и взяткополучателем. Актуальность обращения к указанной проблематике обусловлена широкой палитрой устоявшихся в обществе стереотипов о преимущественной коррупциогенности власти, вынужденности коррупционного поведения взяткодателей и др. Эмпирическая база статьи включает в себя результаты пула региональных исследований уровня коррупции, проведенных в девяти субъектах федерации с разным уровнем социально-экономического развития. Осуществлялось интервьюирование граждан для оценки уровня «бытовой» коррупции и онлайн-опрос представителей бизнеса для оценки уровня «деловой» коррупции. Результаты исследования позволяют констатировать, что в коррупционной сделке, как правило, взяткодатель проявляет инициативу. Этот вывод справедлив и для рядовых граждан, и для предпринимателей независимо от региона, что говорит об универсальности стратегии. Авторы отмечают, что, во-первых, респонденты в основной своей массе убеждены в эффективности взятки и, во-вторых, значительная часть респондентов осведомлена о размере взятки. Очерченные моменты значимы для внушительной части респондентов регионов независимо от их административно-территориального статуса (область, край, республика) и уровня экономического развития (высокий, средний или низкий ВВП).
Коррупция, взятка, коррупционное поведение, инициатива, взяткодатель, взяткополучатель
Короткий адрес: https://sciup.org/170199700
IDR: 170199700 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9558
Текст научной статьи Коррупционная инициатива как предмет социологического анализа
В опрос об инициативе в коррупционных взаимодействиях между должностным лицом – взяткополучателем и гражданином – взяткодателем представляет собой значимую теоретическую и практическую проблему, т.к. отражает двойственную природу феномена коррупции [Алдашева 2019: 194]. Коррупция представляет собой двусторонний процесс девиантного и незаконного соглашения представителей общества и власти, имеющего взаимообусловленный и взаимозависимый характер [Смирнова 2021: 29]. Вследствие этого коррупция одновременно выступает и субъектом, и объектом, способна быть и результатом развития общественных отношений, и конструировать их определенным образом.
Исторически первым в социально-философском осмыслении истоков коррупции выступает классический (моральный) подход, в рамках которого причиной коррупции античные философы объявляли «корыстолюбие» облеченных властью лиц и особый акцент делали на властной природе явления [Цырендоржиева, Лугавцов 2017: 192]. Соответственно, вся вина за инициативу в коррупционных отношениях возлагалась на лиц с властными полномочиями. Платон призывал лишить стражей (должностных лиц) частной собственности, чтобы исключить возможность их личной заинтересованности и оттолкнуть от власти корыстолюбивых людей [Шрейбер 2019: 183]. Аристотель видел одну из главных задач государства в том, чтобы посредством законов воспрепятствовать должностным лицам удовлетворять свои корыстные интересы в ущерб общему благу [Бурмакин 2019: 22].
Рассмотрение коррупции и ее истоков в рамках моральной парадигмы продолжилось в Новое время. Т. Гоббс апеллировал к естественной склонности человека к преследованию своей выгоды и «возвышению» над другими людьми, что порождало нарушение законов, в т.ч. и коррупцию. В образе преступников философ изображал в первую очередь не чиновников, а тщеславных людей, подкупающих государственное правосудие с помощью богатства, связей и авторитета [Таирова 2014: 161]. Ш. Монтескье указывал на то, что обладание властными полномочиями чаще всего ведет к злоупотреблению ими [Везломцев 2016: 147].
Новый взгляд на феномен коррупции предлагался в рамках социологического понимания коррупционных явлений, лежащего в основе теории рациональной бюрократии М. Вебера, структурно-функционального подхода Т. Парсонса и теории социальной аномии Р. Мертона.
М. Вебер возникновение коррупции связывал с нерациональной организацией деятельности государственных служащих, вымогающих взятки, а должных представлять собой «высококвалифицированных специалистов духовного труда, профессионально вышколенных многолетней подготовкой, с высокоразвитой сословной честью, гарантирующих безупречность» [Вебер 1990: 657]. Согласно теории социальной аномии Р. Мертона, коррупция возникает в ситуации, когда падает авторитет правовых и нравственных норм и в обществе повышается спрос на девиантные формы поведения, в т.ч. и коррупционные. Через призму структурно-функционального подхода Т. Парсонса коррупция выступает деструктивным форматом социальной коммуникации, обеспечивающей связь между акторами в рамках решения необходимых вопросов и задач [Туркова 2022: 67]. Соответственно, инициатором деструктивного (или девиантного) взаимодействия, по Мертону и Парсонсу, может оказаться как власть (должностное лицо), так и общество (гражданин).
В рамках неоинституциональной школы причиной коррупции выступает чрезмерное и неэффективное вмешательство в экономические процессы государства, наделяющего своих представителей (чиновников) избыточными полномочиями и позволяющего им за счет этого извлекать личную выгоду [Изотов 2011: 275]. На гражданине, способном своим поведением провоцировать наступление коррупционной ситуации, акцент здесь делается в меньшей степени.
В настоящих реалиях традиция поиска источника коррупции во власти и связанных с нею патерналистско-клиентских отношениях находит свое отражение и в устоявшихся в обществе стереотипах: укоренение во всех социальных группах представления о тотальной коррупции в органах власти; отнесение к коррупции только тех незаконных действий, которые имеют отношение к государству и чиновникам; распространение мнения о порождении коррупции несовершенством законов и корыстолюбием должностных лиц; оправдание коррупции в виде «мелких» служебных нарушений, блата, протекционизма, подарков; наделение коррупции рутинными, практическими функциями, исполнение которых не затрагивает интересы государства [Леонтьева 2010: 46].
Методологические аспекты. В рамках статьи предлагается рассмотреть проблему инициативности в коррупционных взаимоотношениях. Учитывая специфичность поднимаемых тем (сензитивность тематики коррупции и взяточни- чества), формулировки задаваемых респондентам вопросов носили косвенный проективный характер, что позволяло смягчить деликатность темы и повысить субъективную анонимность. Две группы респондентов – граждане и предприниматели – отвечали на идентичные вопросы об инициативе в коррупционных сделках и результате взятки.
Эмпирическая база включает в себя результаты пула региональных исследований уровня коррупции, проведенных в 2022 г. по единообразной методике проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах РФ, утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 мая 2019 г. № 662 «Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации». В субъектах федерации проводились интервьюирование граждан для оценки уровня «бытовой» коррупции и онлайн-опрос представителей бизнеса с помощью электронных платформ ( Google Forms, AnketologBox, Webanketa и др.) для оценки уровня «деловой» коррупции. Объем выборочной совокупности согласно утвержденной методике существенно варьировался: в части оценки «бытовой» коррупции – от 400 респондентов в Республике Мордовия до 4 500 в Нижегородской области; в части оценки уровня «деловой» коррупции – от 100 предпринимателей в Республике Северная Осетия – Алания и до 400 в Московской области. Исследовательским интересом были охвачены 9 регионов, отобранных случайным образом из трех групп субъектов федерации – с высоким, средним и низким уровнями развития региональной экономики: это Нижегородская, Волгоградская, Новосибирская, Саратовская, Оренбургская обл., Алтайский край, республики Мордовия, Удмуртия и Северная Осетия – Алания.
Сформулированы гипотезы исследования:
– инициатором коррупционных сделок в сферах «бытовой» и «деловой» коррупции чаще всего выступают рядовые граждане и предприниматели соответственно;
– превалирующая инициативность граждан и предпринимателей в коррупционном взаимодействии определяется распространяющейся убежденностью в практических свойствах взятки как эффективного инструмента разрешения проблем;
– информированность респондентов о размере взятки указывает на распространенность специфических сведений о коррупционных практиках, т.е. на укорененность коррупции. Последнее также может свидетельствовать о преимущественной инициативности граждан в коррупционных сделках.
Результаты эмпирического исследования. Анализируя средние значения показателя по 9 регионам, отметим, что ответы граждан и предпринимателей об инициаторах коррупционных сделок отличаются несущественно. В сфере «бытовой» коррупции вымогательство назвали причиной возникновения коррупционной ситуации в среднем по регионам 27% респондентов, подкуп должностных лиц – 73%; в сфере «деловой» коррупции – 22 и 78% соответственно. Столь существенное преобладание свидетельствует, что чаще всего инициаторами коррупционных сделок выступает не власть (должностные лица), а общество (рядовые потребители государственных и муниципальных услуг). Характерно, что близкие результаты были получены при опросе и граждан, и предпринимателей. Последнее может говорить о формировании устоявшихся коррупционных практик, применяемых представителями различных социальных групп в качестве рутинного способа разрешения конфликтов и удовлетворения интересов [Акимова 2009: 37].
В отдельных регионах соотношение доли респондентов, выбравших в качестве причины возникновения коррупционной ситуации вымогательство и подкуп, еще более разительно. В Республике Удмуртия, Новосибирской и Нижегородской обл. на вымогательство в сфере «бытовой» коррупции указывали примерно в 4 раз реже, в Оренбургской обл., Алтайском крае и Республике Северная Осетия–Алания – почти в 3 раза реже. В сфере «деловой» коррупции предприниматели выступают с инициативой взятки примерно в 16 раз чаще, чем в Республике Мордовия и Волгоградской обл. (см. табл. 1).
Таблица 1
Причины коррупционных ситуаций в сферах «бытовой» и «деловой» коррупции, %
|
Регион |
«Бытовая» коррупция |
«Деловая» коррупция |
||
|
Вымогательство |
Подкуп |
Вымогательство |
Подкуп |
|
|
В среднем по регионам |
27 |
73 |
22 |
78 |
|
Волгоградская область |
37 |
63 |
6 |
94 |
|
Нижегородская область |
19 |
81 |
23 |
77 |
|
Новосибирская область |
18 |
82 |
13 |
87 |
|
Саратовская область |
37 |
63 |
40 |
60 |
|
Оренбургская область |
24 |
76 |
28 |
72 |
|
Алтайский край |
25 |
75 |
31 |
69 |
|
Республика Северная Осетия – Алания |
25 |
75 |
27 |
73 |
|
Республика Мордовия |
40 |
60 |
6 |
94 |
|
Республика Удмуртия |
19 |
81 |
23 |
73 |
Следует заметить, что уровень экономического развития региона практически не оказывает влияния на соотношение указанных показателей. Оценка результатов в зависимости от отнесения области, края или республики к регионам с высоким, средним и низким уровнем развития экономики не выявила существенный разброс в значениях. Высокий показатель мог фиксироваться в регионе-доноре, а низкий – в регионе-реципиенте и наоборот. Так, в Республике Мордовия, регионе с депрессивной экономикой, о вымогательстве взятки заявили 40% респондентов-предпринимателей, а в Нижегородской обл., регионе с лучшей социально-экономической ситуацией, – 19%. Аналогичное соотношение выстраивается и в отношении других пар субъектов: Республика Удмуртия – Саратовская обл., Республика Северная Осетия–Алания – Волгоградская обл. и др. Последнее позволяет говорить об общих для всех регионов условиях протекания коррупционных процессов, в которых рутинизация и формализация коррупционных практик определяется системными причинами, имеющими значимость для жителей всех регионов страны и не зависящими от социальноэкономического развития субъекта.
Для проверки гипотез исследования на следующем этапе оценивалась специфика восприятия респондентами взятки, для чего задавался вопрос о ее результате. Важно было оценить результативность неформального вознаграждения при взаимодействии потребителя услуги и представителя органов власти. Убежденность опрошенных в высокой эффективности взятки как инструмента по достижению целей естественным образом объясняла бы тот факт, что именно обычные граждане чаще всего выступают инициаторами коррупционных сделок. Коррупционное поведение взяткодателя в таком случае обеспечивает более высокую степень доверия в социальном взаимодействии, следствием которой становится более быстрое и качественное решение вопроса [Скоробагатов, Скоробогатова, Краснов 2021: 757].
Анализ распределения ответов в среднем по регионам показывает, что значимая часть респондентов, как рядовых граждан (52%), так и предпринимателей (34%), воспринимают взятку как практичный и эффективный инструмент для решения проблем, что отмечалось и по результатам других исследований [Агишев, Баринова, Манаева 2021: 86]. По мнению опрошенных, взятка позволяет: минимизировать трудности (17% – граждане, 9% – предприниматели), ускорить решение (26% и 15% соответственно) и качественно решить вопрос (9% и 10% соответственно). В открытых вопросах анкет нередко звучат следующие высказывания: «взятка позволила сильно сократить время оформления документов», «заплатишь деньги – получишь более надежный и качественный результат». Предприниматели, как правило, указывают на то, что взятка помогает обойти противоречивые требования закона, которые в обычном порядке требуют значительных усилий и временн ы х потерь. Существенно реже отмечается альтернатива «взятка ничего не гарантирует».
Зафиксированное соотношение прослеживалось во всех регионах, включенных в выборку. В отдельных субъектах превалирование мнения о практичности взятки было наиболее существенным. В Республике Мордовия, Алтайском крае, Волгоградской и Оренбургской обл. более 60% респондентов, оценивая результат взятки в сфере «бытовой» коррупции, указали, что она позволяет минимизировать трудности, ускорить решение проблемы и повысить качество результата. Аналогичные моменты выделили более 65% бизнесменов в Нижегородской обл. и Республике Северная Осетия – Алания.
Распространенность мнения о практическом характере взятки в конкретном регионе мало обусловлена уровнем экономического развития данного субъекта. Превалирующая убежденность значительной части граждан в эффективности взятки как инструмента непосредственной защиты своих интересов распространена примерно в равной степени во всех субъектах выборки. Примечательно, что, согласно результатам федеральных исследований, каждый второй россиянин не станет колебаться и нарушит правовые и культурные нормы, если речь пойдет об угрозе жизни и специализированной медицинской помощи для себя и своих близких [Максименко и др. 2021: 407].
Осведомленность респондентов о величине взятки является маркером, показывающим степень укорененности коррупции: чем больше респондентов изначально знают размер неформального платежа за конкретные услуги, тем, соответственно, более распространены коррупционные практики в указанной сфере.
Рассматривая информированность респондентов о величине взятки, заметим, что величина взятки в сфере «бытовой» коррупции в той или иной степени известна более 46% респондентов, а в сфере «деловой» коррупции – примерно 42%. Меньшее число опрошенных придерживаются обратной позиции (26% и 21% соответственно) и затрудняются ответить (28% и 37% соответственно).
Среди регионов выделяются Республика Удмуртия, Волгоградская и Нижегородская обл., в которых доля респондентов, знакомых с размером взятки, достигает ½ опрошенных при оценке «бытовой» и «деловой» коррупции. В этой связи следует заметить, что высокая доля респондентов, осведомленных о коррупционных сделках, говорит о том, что указанная проблема часто обсуждается в их среде, осуществляется обмен практическим опытом (в т.ч. и сведениями о затратах на взятку) [Российская коррупция... 2013: 375].
Подводя итог, сформулируем следующие выводы. В рамках коррупционного взаимодействия двух сторон – власти (должностное лицо) и общества (гражданин) – последний, как правило, проявляет инициативу. Указанная стратегия свойственна как обычному заявителю или потребителю государственных и муниципальных услуг, так и предпринимателю, что может свидетельствовать о ее универсальном характере.
Превалирующая инициатива граждан (и предпринимателей) в коррупционных взаимодействиях может быть обусловлена их убежденностью в эффективности взятки как инструмента защиты своих интересов. Взятка наделяется практическими свойствами, позволяющими быстро, эффективно и качественно решить ту или иную проблему.
Довольно высокий уровень осведомленности респондентов о размере взятки в регионах косвенно подтверждает потенциальную готовность гражданина инициировать коррупционную сделку. Очерченные моменты значимы для внушительной части респондентов регионов независимо от их административно-территориального статуса (область, край, республика) и уровня экономического развития (высокий, средний или низкий ВВП).
Статья подготовлена в рамках проекта «Школа молодого этнополитолога» (грант Фонда президентских грантов 22-2-003352).
Список литературы Коррупционная инициатива как предмет социологического анализа
- Агишев Р.Р., Баринова О.Н., Манаева И.В. 2021. Региональная специфика личности взяткодателя: опыт социологического анализа. - Дискурс. Т. 7. № 5. С. 86-97.
- Алдашева А.А. 2019. Принятие коррупции как многоаспектного явления в формировании картины мира у молодежи. - Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. Т. 4. № 1(13). С. 191-203.
- Акимова Н.В. 2009. Коррупция в России: история и современность. -Вестник Академии экономической безопасности МВД России. № 2. С. 36-38.
- Бурмакин В.М. 2019. Проблема формирования антикоррупционных мер в философской ретроспективе (Платон и Аристотель). - Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Философские науки. № 3. С. 18-24.
- Вебер М. 1990. Избранные произведения. М.: Прогресс. 808 с.
- Везломцев В.Е. 2016. Осмысление коррупции в истории социально-философской мысли. - Известия высших учебных заведений. Сер. Гуманитарные науки. Т. 7. Вып. 2. С. 146-149.
- Изотов М.О. 2011. Генезис понятия коррупции в социально-философской мысли. - Вестник Орловского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Право. № 2(97). Вып. 15. С. 270-278.
- Леонтьева Э.О. 2010. Восприятие коррупции в стереотипах массового сознания россиян. - Российская политика. № 1(56). С. 45-51.
- Максименко А.А., Дейнека О.С., Крылова Д.В., Духанина Л.Н. 2021. Отношение россиян к коррупции. - Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. № 13(4). С. 407-428.
- Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыт социологического анализа (под ред. Г.А. Сатарова). 2013. М.: Фонд «Либеральная Миссия». 752 с.
- Скоробагатов А.В., Скоробогатова А.И., Краснов А.В. 2021. Дискурс коррупции в российском обществе. — Актуальные проблемы экономики и права. № 15(4). С. 751-764.
- Смирнова Т.В. 2021. Управленческие аспекты антикоррупционной политики. - Экономика. Социология. Право. № 3(23). С. 29-34.
- Таирова Н.М. 2014. Коррупция как социальное явление: историко-философские и политологические аспекты мировой мысли и практики. — Управленческое консультирование. № 2(62). С. 159-169.
- Туркова В.Н. 2022. Взятка как социальное действие (на основе системной теории Т. Парсонса). — Социология. № 5. С. 65-72.
- Цырендоржиева Д.Ш., Лугавцов К.В. 2017. Социально-философское осмысление феномена коррупции в трудах Платона и Аристотеля. — Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 10. Ч. 2. С. 191-193.
- Шрейбер В.К. 2019. Как рука руку моет, или Платон и современность. — Новые идеи в философии. № 6(27). С. 173-185.