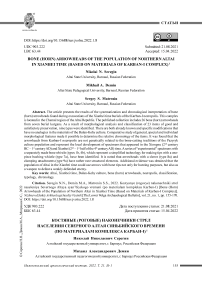Костяные (роговые) наконечники стрел населения Северного Алтая сяньбийского времени (по материалам комплекса Карбан-I)
Автор: Серегин Николай Николаевич, Демин Михаил Александрович, Матренин Сергей Сергеевич
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена введению в научный оборот результатов систематизации и хронологической интерпретации костяных (роговых) наконечников стрел, найденных в ходе раскопок погребений сяньбийского времени некрополя Карбан-I. Данный комплекс расположен в Чемальском районе Республики Алтай. Публикуемая коллекция включает 26 костяных (роговых) наконечников стрел из семи курганов (№ 9, 11, 14, 25, 27, 33, 39). В результате морфологического анализа и классификации 23 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности выделено девять типов изделий. Среди них имеются как уже известные, так и специфические модификации, которые не имеют аналогий в материалах булан-кобинской культуры Алтая. Сравнительное изучение общих, особенных и единичных морфологических признаков позволило определить относительную хронологию изделий. Установлено, что карбанские наконечники стрел генетически не связаны с костерезными традициями населения пазырыкской культуры Алтая скифо-сакского периода и представляют собой местное развитие образцов, появившихся в хуннуское (II в. до н.э. - I в. н.э.) и сяньбийское (II - 1-я половина IV в. н.э.) время. Выделена серия «экспериментальных» черешковых экземпляров с отдельно изготовленной костяной свистункой (типы 1б, 4б), которые представляют собой упрощенную технологию изготовления наконечников с цельной свистункой-втулкой (тип 7а). Отмечено, что наконечники с втульчатым (тип 8а) и зажимным насадом (тип 9а) имеют достаточно редкие элементы конструкции. Получены дополнительные свидетельства того, что в сяньбийское время население Алтая могло использовать стрелы с костяными наконечниками не только в охотничьих целях, но и в качестве оружия для поражения слабо защищенного противника.
Алтай, сяньбийское время, булан-кобинская культура, костяные (роговые) наконечники стрел, некрополь, классификация, типология, хронология
Короткий адрес: https://sciup.org/149140587
IDR: 149140587 | УДК: 903.222 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.1.8
Текст научной статьи Костяные (роговые) наконечники стрел населения Северного Алтая сяньбийского времени (по материалам комплекса Карбан-I)
СТАТЬИ
DOI:
Лук и стрелы с наконечниками из кости и рога на протяжении длительного периода являлись эффективным средством ведения дальнего боя у многих народов мира. После широкого распространения в Центральной Азии в хуннуское время (II в. до н.э. – I в. н.э.) железа как основного материала для изготовления наступательного и оборонительного вооружения стрелы с костяными (роговыми) 2 проникателями использовались главным образом как охотничий инвентарь. Правда, в отдельных случаях они могли применяться в качестве дополнительных средств поражения живой силы слабо защищенного противника [Соенов и др., 2018, с. 210; Тишкин и др., 2018, с. 119].
К настоящему времени в результате раскопок археологических памятников бу-лан-кобинской культуры Алтая хуннуско-сянь-бийско-жужанского времени (II в. до н.э. – V в. н.э.) сформирована обширная коллекция костяных (роговых) наконечников стрел, насчитывающая около 300 экземпляров
[Матренин, Серегин, 2019, с. 108]. Очевидно, количество таких находок демонстрирует большое значение данных предметов в системе жизнеобеспечения населения региона. Кроме того, костяные (роговые) наконечники стрел довольно информативны для определения датировки отдельных закрытых комплексов, а также при проведении различных историко-археологических реконструкций.
Опыт исследования костяных (роговых) наконечников населения булан-кобинской культуры Алтая отражен во многих работах преимущественно в рамках изучения оружия дальнего боя. Первая попытка характеристики немногочисленных опубликованных изделий предпринята Ю.С. Худяковым [1986]. В дальнейшем этот специалист неоднократно анализировал находки из раскопанных им комплексов хуннуского (Усть-Эдиган) и сянь-бийского (Улуг-Чолтух-I) времени в Северном Алтае [Худяков, 1997; 2002; 2014а; 2014б; 2016]. В диссертации Ю.С. Мамадакова [1990, с. 79–85] разработана развернутая классификация нескольких десятков костяных
(роговых) наконечников стрел из могильников Центрального Алтая сяньбийского периода (Белый-Бом-II, Бош-Туу-I, Булан-Кобы-IV). Изучение немногочисленных подобных изделий отражено в публикациях горно-алтайских археологов в рамках издания разновременных комплексов Верхней Катуни (Верх-Уй-мон, Чендек) [Соенов, Эбель, 1992; Соенов, 2005]. Наиболее обширное собрание костяных (роговых) наконечников стрел булан-ко-бинской культуры II в. до н.э. – V в. н.э. исследовал А.В. Эбель [1998, с. 11–12] в кандидатской диссертации. Представительная по составу серия образцов из полностью раскопанного некрополя жужанского времени Дя-лян (Северный Алтай) обобщена Ю.В. Тетериным [2004]. Отдельно стоит отметить предложенные А.П. Бородовским [1997, рис. 11, табл. 47, 1–11 ] реконструкции технологий производства некоторых показательных модификаций костяных и роговых проника-телей из памятников региона 1-й половины I тыс. н.э. Некоторые вопросы происхождения и датировки костяных (роговых) стрел представлены в публикациях авторов настоящей статьи, посвященных введению в научный оборот результатов раскопок погребальных комплексов сяньбийско-жужанско-го времени (Степушка, Тыткескень-VI, Чо-бурак-I) [Кирюшин и др., 2014; Тишкин и др., 2018, с. 119–126; Серегин и др., 2020]. В обозначенных работах отмечены специфические черты отдельных типов наконечников булан-кобинской культуры, а также обозначен круг актуальных для их датировки вещественных аналогий из других регионов.
Полноценное изучение эволюции наконечников стрел из кости (рога) у населения булан-кобинской культуры Алтая осложняет тот факт, что значительная часть подобных изделий не опубликована. Так, большинство находок из памятников рассматриваемого региона сяньбийского времени, в ходе раскопок которых обнаружено около 80 % известных предметов, до сих пор не введены в научный оборот. Это обстоятельство определяет актуальность данной статьи, посвященной систематизации, анализу и хронологической интерпретации костяных (роговых) наконечников стрел из погребений некрополя Карбан-I в Северном Алтае.
Материалы и методы исследования
Погребально-поминальный комплекс Карбан-I расположен на левом берегу р. Катунь, в 0,4 км к северу от устья р. Карбан, в 1,7 км к юго-востоку от с. Куюс Чемальского района Республики Алтай. В 1989–1990 гг. на данном памятнике в рамках аварийных археологических работ экспедицией Барнаульского государственного педагогического института (ныне Алтайский государственный педагогический университет) под руководством М.А. Демина была вскрыта серия погребений сяньбийского времени. Несмотря на то что материалы раскопок опубликованы лишь частично [Контев, 1991; Серегин и др., 2021], очевидно, что некрополь весьма информативен для изучения специфики историко-культурных процессов в регионе в данный период.
Роговые (костяные) наконечники стрел найдены в семи непотревоженных мужских захоронениях, совершенных по обряду одиночной ингумации. Всего обнаружено 26 изделий разной степени сохранности. Количество наконечников в погребениях варьировало от одного до восьми. Документированы следующие варианты размещения данных предметов in situ: курган № 9 – компактно у правого локтя умершего человека (5 экз.) рядом с единственным железным наконечником, и порознь в ногах (3 экз.); курган № 11 – под срединной накладкой лука (1 экз.) и справа от черепа (1 экз.); курган № 14 – в виде скопления над правым крылом таза (4 экз.), под правой плечевой костью (1 экз.), среди ребер внутри грудной клетки (1 экз.), между грудными позвонками острием вверх (1 экз.); курган № 25 – около правого локтя (3 экз.); курган № 27 – возле правого крыла таза (2 экз.); курган № 33 – справа от черепа (3 экз.) вместе с одним железным наконечником и в заполнении внутримогильной конструкции над ребрами человека (1 экз.); курган № 39 – между ног, в нижней части голеней (1 экз.). Материалы раскопок кургана № 14 свидетельствуют о том, что мужчина был убит несколькими стрелами в спину. Данный факт подтверждает сделанное ранее наблюдение о том, что в отдельных случаях население булан-кобинской культуры Алтая использовало костяные (роговые) наконечники не только в охотничьих целях, но и в качестве оружия [Тур и др., 2018]. Следует отметить, что в двух объектах (курганы № 9 и 33) наконечники стрел из кости (рога) размещены рядом (в колчане?) с боевыми железными проникателями.
Зафиксированная коллекция характеризуется морфологическим разнообразием целых и фрагментированных образцов, что позволяет провести их классификацию. Таксономическая систематизация изделий из некрополя Карбан-I основывалась на имеющемся опыте изучения костяных (роговых) наконечников стрел населения булан-кобинской культуры Алтая [Тишкин и др., 2018, с. 119–126; Матренин, Серегин, 2019; Серегин и др., 2020]. Подробный морфологический анализ предметов позволил обозначить специфические черты некоторых типов наконечников и определить круг аналогий из комплексов булан-ко-бинской культуры Алтая, а также памятников, раскопанных на сопредельных территориях. Сделанные наблюдения стали основой для заключений, связанных с хронологией изучаемых изделий, а также особенностями их использования населением Северного Алтая сяньбийского времени.
Анализ материалов
Классификация костяных (роговых) наконечников стрел из погребально-поминального комплекса Карбан-I осуществлялась по таким параметрам, как материал изготовления (группа), способ насада на древко (разряд), поперечное сечение пера (раздел), общий силуэт пера в продольной плоскости и наличие острия (отдел), форма пера (тип), особенности перехода пера в насад, наличие / отсутствие свистунки, форма и (или) пропорции насада (вариант). В классификации учтены 23 изделия, характеризующиеся полным набором обозначенных морфологических показателей. В результате выделена одна группа, три разряда, три раздела, два отдела, девять типов костяных (роговых) наконечников стрел, дополненных одиннадцатью вариантами.
Группа I. Костяные (роговые).
Разряд I. Черешковые.
Раздел I. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 1. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики (шипы), без свистунки, четырехугольный черешок укороченных пропорций (длина меньше, либо равна поражающей части). Включает два экземпляра из кургана № 25. Размеры пера 3,4– 4,2 х 1,5-1,7 см, длина насада 1,5-2,7 см (рис. 1, 2–3 ).
Вариант б – вогнутые плечики (шипы), отдельно изготовленная свистунка бочонковидной формы, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает один экземпляр из кургана № 33. Размеры пера 5,1 х 1,3 см, длина насада не менее 3 см (черешок обломан) (рис. 1, 4 ).
Тип 2. Пятиугольные.
Вариант а – вогнутые плечики (шипы), без свистунки, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает четыре экземпляра из курганов № 9 (2), № 11, № 25. Размеры пера 4,1-4,5 х 1,1-1,7 см, длина насада 1,63,4 см (рис. 1, 1,5–7 , 3, 1–3 ).
Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 3. Листовидные.
Вариант а – покатые плечики, без свистунки, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает два экземпляра из кургана № 9. Отметим, что у одного наконечника на боковых гранях пера зафиксированы насечки в виде коротких прямых линий. Размеры пера 4,1-4,2 х 1,1 см, длина насада у полностью сохранившегося изделия 3 см (рис. 1, 8–9 , 3, 4–5 ).
Раздел II. Многогранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 4. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без свистунки, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает четыре экземпляра из курганов № 9 (2) и № 27 (2). Размеры пера 4,8-6,8 х 1,2-2,3 см, длина насада 1,33 см (рис. 1, 10–13 , 3, 6–7 ).
Вариант б – вогнутые плечики, отдельно изготовленная свистунка бочонковидной формы, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает четыре экземпляра из курганов № 14 (2) и № 33 (2). Длина пера не менее 4 см, ширина – 1,6–2 см, длина насада – 2,6–2,9 см (рис. 1, 14–15 , 2, 1–2 , 3, 8–11 ).
Раздел III. Линзовидные / дуговидные. Отдел I. Геометрические, заостренные. Тип 5. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без свистунки, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает два экземпляра из курганов № 9 и 11. Размеры пера 4,7-5 х 2 см, длина насада у одного изделия не менее 2,5 см (рис. 2, 3,5 , 3, 11–12 ).
Тип 6. Пятиугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без свистунки, четырехугольный черешок укороченных пропорций. Включает один экземпляр из кургана № 39. Размеры пера 3,4 х 1,8 см, длина сохранившегося насада 0,8 см (рис. 2, 6 , 3, 14 ).
Разряд II. Втульчатые.
Раздел I. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 7. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, цельная свистунка, выступающая втулка бочонковидной формы. Включает один экземпляр из кургана № 14. Размеры пера 4 х 1,3 см, длина насада – 2,3 см (рис. 2, 7 , 3, 15 ).
Раздел III. Линзовидные, дуговидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 8. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без свистунки, выступающая втулка цилиндрической формы. Включает один экземпляр из кургана № 14. Длина обломка пера – 2,7 см, ширина – 1,2 см, длина выступающей втулки – около 0,6 см (рис. 2, 8 , 3, 16 ).
Разряд III. Зажимные.
Раздел II. Многогранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 9. Пятиугольные.
Вариант а – покатые плечики, без свистунки, насад с приостренными концами укороченных пропорций. Включает один экземпляр из кургана № 14. Размеры пера 3,8 х 1,1 см, длина насада 1,9 см (рис. 2, 9 , 3, 17 ).
Обсуждение результатов
В рамках хронологической атрибуции классифицированных изделий принимались во внимание только информативные для сравнения аналогии из памятников Центральной, Средней и Северной Азии хуннуско-сяньбийско-жужанского времени (II в. до н.э. – V в. н.э.), а также начала раннего средневековья. При типологии также учитывалось, что вариативность некоторых морфологических признаков наконечников зависела от особенностей исходного сырья, профильного назначения про-никателей, а также определялась участием в их производстве широкого круга мастеров-косторезов. В отдельных случаях имела значение количественная встречаемость сочетаний конкретных показателей конструкции и формы предметов.
В анализируемом собрании количественно преобладают образцы с черешковым насадом (разряд I). Данный способ крепления костяных (роговых) наконечников на древке стрелы являлся основным на всех этапах существования булан-кобинской культуры Алтая. Среди них черешковые ромбовидные (раздел I) наконечники были самой популярной модификацией изделий данной категории, впервые появившейся на Алтае во II в. до н.э. – I в. н.э. [Худяков, 1997, рис. 2, 1–3 , 5,6 ]. При этом в их изготовлении у «булан-кобинцев» не прослеживается влияния пазырыкской и хун-нуской культурных традиций [Матренин, Серегин, 2019, с. 108]. Распространение ромбовидного сечения у костяных (роговых) наконечников стрел было своего рода эпохальным явлением, представленным у многих народов Восточной Евразии во II в. до н.э. – V в. н.э.
Классифицированные экземпляры раздела I из некрополя Карбан-I снабжены острым геометрическим (отдел I), реже негеометрическим (отдел II) пером треугольной (тип 1а), пятиугольной (тип 2а), листовидной (тип 3а) форм с разными вариантами перехода в короткий черешок. За пределами Алтая актуальные для их датировки аналогии зафиксированы в тесинской (I в. до н.э. – II в. н.э.) (тип 3а) и таштыкской (IV–VI вв. н.э.) (тип 3а) культурах Хакасии, в бурхотуйской культуре Забайкалья (IV–VI вв. н.э.) (тип 1а), в верхнеобской (V – начало VIII в. н.э.) культуре Западной Сибири (тип 3а), в джетыасарской культуре Восточного Приаралья (III–V вв. н.э.) (тип 3а) [Худяков, 1986, с. 54, рис. 16, 8 , с. 95, рис. 37, 15–16 , с. 115, рис. 50, 10 ; 1991, с. 59, рис. 28, 18–19,26 ; Левина, 1996, рис. 93, 12– 13,25,27,31–32,38 ; Троицкая, Новиков, 1998, с. 40].
Черешковые ромбовидные наконечники треугольной формы с вогнутыми плечиками-шипами типа 1а обнаружены в погребальных комплексах булан-кобинской культуры сянь- бийского (Айрыдаш-I, Булан-Кобы-IV, Сте-пушка, Тыткескень, Пазырык, Улита) и жу-жанского времени (Кок-Паш) [Гаврилова, 1965, рис. 3,1; Мамадаков, 1990, рис. 15,6, 25,6; Бобров и др., 2003, рис. 18,3–5; Кирюшин и др., 2014, рис. 6,10,13; Тишкин и др., 2018, с. 120, табл. 35,9,15; Матренин, Серегин, 2019, с. 109]. С учетом представленных сравнений можно сделать вывод, что подобные изделия являются одной из массовых модификаций костяных (роговых) проникателей населения Алтая во II – 1-й половине IV в. н.э., удельный вес которых заметно сократился во 2-й половине IV – V в. н.э. [Матренин, Серегин, 2019, с. 105, 109]. Особого внимания заслуживает экземпляр с отдельно изготовленной костяной свистункой (тип 1б). Данный элемент был, по-видимому, заимствован из конструкции боевых железных наконечников. Кроме того, можно предположить, что рассматриваемое изделие представляет собой попытку упростить более трудоемкую технологию изготовления костяных (роговых) наконечников с цельной свистункой-втулкой.
Черешковые ромбовидные пятиугольные наконечники с вогнутыми плечиками (тип 2а) известны уже в ранних (II в. до н.э. – I в. н.э.) материалах булан-кобинской культуры из могильника Усть-Эдиган, а в дальнейшем встречаются в погребальных памятниках сяньбий-ского времени (Бош-Туу-I, Булан-Кобы-IV, Улита) [Худяков, 1997, рис. 2, 5–6 ; Мамадаков, 1990, рис. 15, 4 , 26, 5–6 , 66, 6 ]. Опираясь на имеющиеся вещественные источники, период бытования таких наконечников у населения Алтая предварительно можно определить в рамках II в. до н.э. – 1-й половины IV в. н.э. Достаточно необычно выглядит наконечник типа 2а из кургана № 11, имеющий черешок с кольцевым упором как у железных проника-телей. Следует отметить, что костяные (роговые) наконечники разных форм с упором встречаются в материальной культуре разных групп сяньби (конец I – IV в. н.э.) Восточного Забайкалья, Северо-Западной Маньчжурии и Внутренней Монголии, а также получили распространение у племен бурхотуйской культуры в IV–VI вв. н.э. [Худяков, Юй Су-Хуа, 2005, с. 12, рис. 1, 25,33 ; Ковычев, 2006, рис. 5, 2– 3,5–7,20–21, 6, 5–6 ; Кириллов и др., 2000, рис. 79, 15–18 ].
Черешковые наконечники с листовидным пером и покатыми плечиками (тип 3а) обнаружены в погребениях Алтая, относящихся к бело-бомскому (Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Степушка, Тыткескень-VI) и верх-уймонско-му (Верх-Уймон, Кок-Паш) этапам булан-ко-бинской культуры [Мамадаков, 1990, рис. 25, 7 ; Бобров и др., 2003, рис. 6, 4 ; Кирюшин и др., 2014, рис. 6, 13 ; Соенов, 2017, рис. 14, 6 ; Тишкин и др., 2018, с. 120]. Общая датировка наконечников типа 3а укладывается в хронологический интервал II–V вв. н.э.
Черешковые наконечники с многогранным в сечении (раздел II) геометрическим пером (отдел I) треугольной формы (тип 4а–б) являются производными от ранее рассмотренных ромбовидных наконечников типа 1а–б. Многогранное сечение боевой части получалось в одних случаях в результате выреза кровотоков, а в других, вероятно, было связано с особенностями исходной костяной заготовки. Аналогия экземпляру типа 4а зафиксирована на Алтае в могильнике Улуг-Чол-тух-I, который датируется III–IV вв. н.э. [Худяков, 2014а]. Показательно, что четыре наконечника имели отдельно изготовленную костяную свистунку бочонковидной формы (тип 4б).
Костяные (роговые) наконечники с линзовидным (дуговидным) пером (раздел III) в виде геометрической заостренной фигуры (отдел I) треугольной (тип 5а) и пятиугольной форм (тип 6а) c вогнутыми плечиками-шипами могли быть выполнены из трубчатых костей [Соенов, Константинова, 2015, с. 34]. В булан-кобинской культуре похожие наконечники происходят из погребальных комплексов сяньбийского времени Тыткес-кень-VI (типы 5а, 6а) и Степушка (тип 5а) [Кирюшин и др., 2014; Тишкин и др., 2018, с. 120, 122, 124].
Наконечники стрел с втульчатым насадом (разряд II) и ромбовидным в сечении пером (раздел I) в материалах некрополя Кар-бан-I представлены экземпляром, имеющим геометрическое заостренное перо (отдел I) треугольной формы с вогнутыми плечиками и выступающей цельной бочонковидной втул-кой-свистункой (тип 7а). Технология их производства была наиболее сложной. Данные изделия с различным сечением пера (трехгран- ным, ромбовидным) имеют ограниченный ареал распространения. В Восточном Забайкалье они известны в дуройской (III–IV вв. н.э.) и бурхотуйской (IV–VI вв. н.э.) культурах [Худяков, 1991, рис. 28,1–3; Литвинцев, 2006, рис. 39,10; Ковычев, 2006, рис. 6,10]. Пара похожих предметов обнаружена на территории Монголии в погребении 2-й половины III – начала VI в. н.э. [Цэвэндорж и др., 2008, рис. 79]. У населения Алтая период активного применения таких втульчатых наконечников приходится на 2-ю четверть I тыс. н.э., что, очевидно, отражает влияние костерезных традиций одной из групп сяньби [Матренин, Серегин, 2019, с. 109]. Судя по материалам комплекса Карбан-I, «булан-кобинцы» могли познакомиться с костяными (роговыми) про-никателями данной конструкции в 1-й половине III в. н.э. Основанием для подобного предположения выступает обнаружение в данном комплексе серии из шести «экспериментальных» образцов черешковых наконечников с отдельно изготовленной свистун-кой (типы 1б, 4б), не встречающихся в других погребальных комплексах региона сянь-бийского времени.
Втульчатый (разряд II) наконечник с линзовидным / дуговидным (раздел III) пером треугольной формы, имеющий вогнутые плечики и цельную выступающую втулку цилиндрической формы без свистунки (тип 8а), не имеет точных аналогий. Близкие по оформлению изделия представлены в сяньбийских могильниках Восточного Забайкалья [Яремчук, 2005, рис. 76, 7–8 ; Ковычев, 2006, рис. 6, 10 ; Литвинцев, 2006, рис. 39, 9 ]. В качестве наиболее похожих сопоставлений в известных археологических материалах булан-ко-бинской культуры можно указать на ромбовидные и многогранные наконечники с треугольным и пятиугольным пером, найденные в могильниках III–IV вв. н.э. (Булан-Кобы-IV, Степушка) [Мамадаков, 1990, рис. 16, 6 ; Тишкин и др., 2018, с. 121, табл. 34, 2 ]. Конструктивно похожие экземпляры с трехгранным пером зафиксированы в памятниках II в. до н.э. – I в. н.э. (Усть-Эдиган) и 2-й половины IV – начала V в. н.э. (Чобурак-I) [Худяков, 1997, рис. 1, 6 ; Серегин и др., 2020, с. 92, рис. 2, 7 ]. Вопрос о датировке наконечников типа 8а остается пока открытым.
Костяные (роговые) наконечники с зажимным насадом (разряд III) представлены единственным многогранным (раздел IV) экземпляром с пятиугольным пером (тип 9а) 3. Распространение стрел с таким способом крепления на древке у народов Северной Азии исследователи традиционно связывают с влиянием предметного комплекса культуры хунну (сюнну) [Худяков, 1986, с. 39–41, 59; Ковалев, 2002, с. 122, рис. 2, 2,18 ]. Однако на Алтае проникатели с «расщепленным» насадом появились не ранее II в. н.э. При этом они значительно отличаются по своим морфологическим признакам от хуннуских наконечников, что свидетельствует об их местном генезисе, возможно, на основе черешковых модификаций [Тишкин и др., 2018, с. 125; Матренин, Серегин, 2019, с. 110–111; Серегин и др., 2020, с. 95]. Данные изделия являются показательным «этнографическим» элементом охотничьего инвентаря скотоводов Алтая в III– V вв. н.э. Очевидно, от «булан-кобинцев» зажимные наконечники проникли к населению майминской культуры Северного Алтая и одинцовской культуры Верхнего Приобья, а также достались в «наследство» алтайским тюркам 2-й половины V – 1-й половины VII в. [Грязнов, 1956, табл. XXXIII, 7 ; Гаврилова, 1965, табл. XXI, 5 ; Худяков и др., 1990, рис. 5; Мамадаков, 1994, рис. 2, 12 ; Абдулганеев, 1996, рис. 1, 4–5 ; Мамадаков, Горбунов, 1997, рис. IX, 11–12 ; Кубарев, 2005, табл. 4, 8 ; Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 71, 10,12,17 ].
Наконечник типа 9а из некрополя Кар-бан-I отличается достаточно редким многогранным пером и слабо выраженными покатыми плечиками, что, вероятно, обусловлено его изготовлением из трубчатой кости. В типологическом отношении он совпадает с часто встречающимися в булан-кобинской культуре ромбовидными экземплярами, которые имеют обычно прямые плечики [Глоба, 1983; Мамадаков, 1990, рис. 33, 9–10 , 38, 8 , 45, 6–7 , 51, 6 ; Соенов, Эбель, 1992, рис. 28, 1 ; Тишкин и др., 2018, с. 122]. Датировка карбанского изделия может быть скорректирована после определения археологического возраста погребения, в котором он был найден. Показательно, что этот наконечник входил в один комплект с проникателями типов 4б и 7а, датирующимися не ранее III в. н.э.
Заключение
Вещественные материалы из комплекса Карбан-I показывают значительное разнообразие костяных (роговых) наконечников стрел населения Северного Алтая в сяньбийское время. В результате классификации 23 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности выделено девять типов изделий, среди которых встречаются как уже известные, так и специфические модификации, не имеющие точных аналогий в памятниках булан-кобинс-кой культуры. В изученном собрании количественно преобладают черешковые проникате-ли (типы 1–6). Генетически они не связаны с костерезными традициями населения пазы-рыкской культуры Алтая и отражают местное развитие образцов, появившихся в хуннус-кое (II в. до н.э. – I в. н.э.) и сяньбийское (II – 1-я половина IV в. н.э.) время. Большой процент изделий с многогранным и линзовидным (дуговидным) пером у «карбанцев» обусловлен, с одной стороны, практикой изготовления кровотоков, а с другой – использованием заготовок из трубчатой кости или грубо обработанных роговых пластин. Среди них зафиксированы пять своего рода «экспериментальных» экземпляров (типы 1б, 4б) с отдельно изготовленной костяной свистункой. Имеются основания для предположения о том, что данные предметы представляют собой упрощенную технологию производства наконечников с цельной свистункой-втулкой (тип 7а), популярных на Алтае и в Восточном Забайкалье во 2-й четверти I тыс. н.э. Наконечники с втульчатым (тип 8а) и зажимным насадом (тип 9а) из погребений некрополя Кар-бан-I имеют достаточно редкие элементы конструкции, поэтому их датировка может быть установлена с учетом археологического возраста объектов, в которых они были обнаружены. Хронология остальных изделий достаточно уверенно определяется в рамках сяньбийского времени, отражая вариабель- ность традиций изготовления таких предметов населением Северного Алтая во II – 1-й половине IV в. н.э.
В целом по соотношению изделий с разным способом насада, а также по другим характеристикам коллекцию из комплекса Карбан-I можно сопоставить с материалами таких бу-лан-кобинских некрополей Алтая, как Тыткес-кень-VI и Верх-Уймон. Вопрос о зависимости морфологии наконечников от их профильной специализации остается пока открытым.
Документированное свидетельство размещения костяных (роговых) проникателей in situ в посткраниальном скелете мужчины из кургана № 14 некрополя Карбан-I подтверждает тезис о том, что в отдельных случаях носители булан-кобинской культуры Алтая использовали наконечники из остеологического материала не только в охотничьих целях, но и в качестве оружия.
Список литературы Костяные (роговые) наконечники стрел населения Северного Алтая сяньбийского времени (по материалам комплекса Карбан-I)
- Абдулганеев М. Т., 1996. Поселение Майма-1 и культурно-хронологическая атрибутация земледельческих поселений Горного Алтая // Древние поселения Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 165–171.
- Бобров В. В., Васютин А. С., Васютин С. А., 2003. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII века). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 224 с.
- Бородовский А. П., 1997. Древнее костерезное дело юга Западной Сибири. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 224 с.
- Гаврилова А. А., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М. ; Л.: Наука. 146 с.
- Глоба Г. Д., 1983. Раскопки курганного могильника Белый Бом-II // Археологические исследования в Горном Алтае в 1980–1982 годах. Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ. С. 116–126.
- Грязнов М. П., 1956. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М. ; Л.: Изд-во АН СССР. 162 с.
- Кириллов И. И., Ковычев Е. В., Кириллов О. И., 2000. Дарасунский комплекс археологических памятников. Восточное Забайкалье. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 176 с.
- Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., Матренин С. С., 2014. Материалы сяньбийского времени погребально-поминального комплекса Тыткескень-VI на Алтае // Теория и практика археологических исследований. № 2 (10). С. 5–24.
- Ковалев А. А., 2002. О происхождении хунну // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ ; Чита: Изд-во Бурят. ун-та. С. 103–131.
- Ковычев Е. В., 2006. Некоторые вопросы этнической и культурной истории Восточного Забайкалья в конце I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. // Известия лаборатории древних технологий. Вып. 4. Иркутск: Изд-во ИрГТУ. С. 242–258.
- Контев А. В., 1991. Раскопки позднегуннских погребений урочища Карбан (Горный Алтай) // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. Красноярск. С. 54–55.
- Кубарев Г. В., 2005. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосбирск: ИАЭТ СО РАН. 400 с.
- Кунгурова Н. Ю., Абдулганеев М. Т., 2019. Майминская культура. По материалам поселений Салаира и Предалтайской равнины 1-й пол. I тыс. н.э. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 214 с.
- Левина Л. М., 1996. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э. М.: Восточная литература РАН. 396 с.
- Литвинцев А. Ю., 2006. Погребения эпохи средневековья разновременного могильника в пади Кангил // Записки Нерчинского краеведческого музея. № 2. Нерчинск: Нерчин. краевед. музей им. М. Д. Бутна. С. 35–40.
- Мамадаков Ю. Т., 1990. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н.э.: дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск. 317 с.
- Мамадаков Ю. Т., 1994. Ритуальные сооружения булан-кобинской культуры // Археология Горного Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 58–63.
- Мамадаков Ю. Т., Горбунов В. В., 1997. Древнетюркские курганы могильника Катанда-3 // Известия лаборатории археологии. Вып. 2. Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 115–129.
- Матренин С. С., Серегин Н. Н., 2019. Костяные (роговые) наконечники стрел кочевников Алтая рубежа древности и средневековья // Известия Алтайского государственного университета. Серия: Исторические науки и археология. № 3 (107). С. 104–113.
- Серегин Н. Н., Демин Д. А., Матренин С. С., 2021. Объекты сяньбийского времени комплекса Карбан-I (Северный Алтай) // Народы и религии Евразии. № 2 (27). С. 81–91.
- Серегин Н. Н., Тишкин А. А., Матренин С. С., Паршикова Т. С., 2020. Костяные (роговые) наконечники стрел населения Алтая жужанского времени (по материалам археологического комплекса Чобурак-I) // Теория и практика археологических исследований. № 1. С. 88–99.
- Соенов В. И., 2005. Комплекс вооружения населения Верхней Катуни в гунно-сарматскую эпоху // Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 52–55.
- Соенов В. И., 2017. Нарушенное воинское погребение на могильнике Верх-Уймон // Древности Сибири и Центральной Азии. Вып. 8. Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 117–142.
- Соенов В. И., Константинов Н. А., Трифанова С. В., 2018. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. Горно-Алтайск: ГАГУ. 242 с.
- Соенов В. И., Константинова Е. А., 2015. Ремесленные производства населения Алтая (II в. до н.э. – V в. н.э.).Горно-Алтайск: ГАГУ. 248 с.
- Соенов В. И., Эбель А. В., 1992. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. Горно-Алтайск: ГАГПИ. 116 с.
- Тетерин Ю. В., 2004. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ. С. 37–82.
- Тишкин А. А., Матренин С. С., Шмидт А. В., 2018. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 268 с.
- Троицкая Т. Н., Новиков А. В., 1998. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 152 с.
- Тур С. С., Матренин С. С., Соенов В. И., 2018. Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гуннсарматского времени // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4. С. 132–139.
- Худяков Ю. С., 1986. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука. 268 с.
- Худяков Ю. С., 1991. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука. 190 с.
- Худяков Ю. С., 1997. Вооружение кочевников Горного Алтая хуннского времени (по материалам раскопокмогильника Усть-Эдиган) // Известия лаборатории археологии. Вып. 2. Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 28–37.
- Худяков Ю. С., 2002. Предметы вооружения из памятника Улуг-Чолтух в Горном Алтае // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 79–87.
- Худяков Ю. С., 2014а. Костяные наконечники стрел из могильника Улуг-Чолтух долины р. Эдиган в ГорномАлтае (из раскопок Южно-Сибирского отряда 2008 г.) // Гуманитарные науки в Сибири. № 2. С. 33–36.
- Худяков Ю. С., 2014б. Сравнительный анализ оружия дистанционного боя древних номадов хунно-сяньбийской эпохи в долине р. Эдиган в Горном Алтае // Древности Сибири и Центральной Азии. Вып. 7. Горно-Алтайск: ГАГУ. C. 141–153.
- Худяков Ю. С., 2016. Опыт систематизации предметов вооружения дистанционного боя из памятников айрыдашского типа хунно-сяньбийской эпохи в Горном Алтае // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 15, № 5. С. 20–30.
- Худяков Ю. С., Скобелев С. Г., Мороз М. В., 1990. Археологические исследования в долинах рек Ороктой и Эдиган в 1988 году // Археологические исследования на Катуни. Новосибирск: Наука. С. 95–150.
- Худяков Ю. С., Юй Су-Хуа, 2005. Новые материалы по оружию дистанционного боя сяньби // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск: НГУ. С. 7–18.
- Цэвэндорж Д., Баяр Д., Цэрэндагва Я., Очирхуяг Ц., 2008. Археология Монголии. Уланбаатар: Шинжлэх ухааны академи. 239 с.
- Эбель А. В., 1998. Вооружение и военное дело населения Горного Алтая в гунно-сарматскую эпоху: авто-реф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул. 23 с.
- Яремчук О. А., 2005. Могильник Зоргол-I – памятник хунно-сяньбийской эпохи степной Даурии: дис. ... канд. ист. наук. Чита. 296 с.