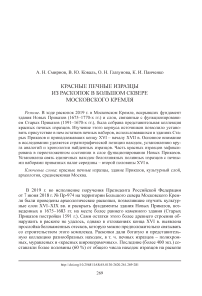Красные печные изразцы из раскопок в Большом сквере Московского кремля
Автор: Смирнов А.Н., Коваль В.Ю., Глазунова О.Н., Панченко К.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности
Статья в выпуске: 261, 2020 года.
Бесплатный доступ
В ходе раскопок 2019 г. в Московском Кремле, вскрывших фундамент здания Новых Приказов (1675-1770-х гг.) и слои, связанные с функционированием Старых Приказов (1591-1670-х гг.), была собрана представительная коллекция красных печных изразцов. Изучение этого корпуса источников позволило установить присутствие в нем остатков печных наборов, использовавшихся в зданиях Старых Приказов и принадлежавших концу XVI - началу XVII в. Основное внимание в исследовании уделяется стратиграфической позиции находок, установлению круга аналогий и хронологии найденных изразцов. Часть красных изразцов зафиксирована в переотложенном состоянии в слое функционирования Новых Приказов. Установлена связь единичных находок белоглиняных поливных изразцов с печными наборами приказных палат середины - второй половины XVI в.
Красные печные изразцы, здание приказов, культурный слой, археология, средневековая москва
Короткий адрес: https://sciup.org/143175984
IDR: 143175984
Текст научной статьи Красные печные изразцы из раскопок в Большом сквере Московского кремля
В 2019 г. во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 7 июня 2018 г. № Пр-974 на территории Большого сквера Московского Кремля были проведены археологические раскопки, позволившие изучить культурные слои XVI–XIX вв. и раскрыть фундаменты здания Новых Приказов, возведенных в 1675–1683 гг. на месте более раннего каменного здания (Старых Приказов постройки 1591 г.). Сами остатки этого более древнего строения обнаружить в раскопе не удалось, однако в отложениях конца XVI в. выявлена прослойка белокаменных отесков, которую можно предположительно связывать со строительством этого комплекса. Раскопки дали богатую и представительную коллекцию разнообразных находок, в т. ч. печных изразцов – полихромных, муравленых и «красных широкорамочных». Последние (более 400 экз.) составляли более половины (60 %) от общего числа находок изразцов на раскопе http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.261.269-281
( Макаров и др ., 2020. Табл. 1). Корпус красных изразцов, полученный всего за один год раскопок в Кремле, сопоставим по объему с сохранившимися коллекциями из раскопок 1950-х гг. в Зарядье и превышает число находок таких изразцов из раскопок, например, Романова двора ( Мирясова , 2009. Табл. 20). Нельзя не упомянуть в данном случае и те 12 красных изразцов, собранных неподалеку от места раскопок Н. В. Султановым в 1894 г при работах по возведению памятника Александру II.
Настоящая статья посвящена анализу этой части изразцовой коллекции, важной для характеристики интерьера приказных зданий и стратиграфической характеристики изученного участка.
Изучением «красных» (или «терракотовых») печных изразцов Москвы занимались специалисты по архитектуре, археологии и искусствознанию – Н. В. Султанов (1894), А. В. Филиппов (1938), Р. Л. Розенфельдт (1968), С. А. Маслих (1983). Значительный вклад в изучение процесса становления и развития ранних форм изразцового декора внесен С. И. Барановой (2008; 2011; 2015).
В стратиграфии культурных напластований, вскрытых раскопом, «красные широкорамочные» изразцы встречались во всех слоях и прослойках от современной дневной поверхности до горизонта конца XVI в. Отдельные обломки изразцов, представленные только частями румп, были отмечены даже в прослойках, подстилавших слой строительства зданий Старых Приказов. Среди них выделяется один крупный обломок, у которого от лицевой пластины сохранился лишь край очень широкой рамки (более 2,2 см), а румпа имела подрезанные по сырой глине грани.
Наибольшее количество красных изразцов было собрано, как и следовало ожидать, в слое, отложившемся в интервале между 1590-ми гг. и 1675 г. (период существования Старых Приказов). К сожалению, постройки этого времени в раскоп не попали. Многие обломки изразцов носят следы характерной истер-тости, которая свидетельствует об их продолжительном нахождении на погребенной дневной поверхности под ногами пешеходов. Это хорошо соотносится с местоположением исследованного участка, который мог размещаться во внутреннем дворе комплекса Приказных палат.
Концентрация обломков изразцов в толще рассматриваемого слоя была примерно одинаковой. Исключение составляют скопления обломков, происходящие из линз рыжей, частично обожженной, глины с включениями битого кирпича, мощностью до 20 см, в самой верхней части слоя. Одно такое скопление было прослежено в юго-западной части раскопа, при этом вмещавшая его линза печной глины была разрезана лентой фундамента внутренней стены Новых Приказов, возведенных в 1675–1683 гг. В этой линзе встречены обломки печных изразцов (многие обломки подбирались, т. е. являлись частями разбитых изразцов), залегавшие в виде локальных скоплений. Вероятно, и сама глина, и изразцы представляют собой остатки демонтированной печи. Возможно, это следы ремонта печного отопления в одном из помещений Старых Приказов в середине или третьей четверти XVII в. или же следствие разборки этих палат непосредственно перед строительством здания Новых Приказов в 1675 г.
В комплексе изразцов, происходивших из линз печной глины, имеются все элементы печного набора. В первую очередь отметим наличие обломков от пяти экземпляров одинаковых городков со стилизованным растительным орнаментом в нижней прямоугольной части и изображением лебедя (?) в фигурной верхней (рис. 1: 6) (ср.: Розенфельдт, 1968. Табл. 22: 19).
Среди лицевых пластин выделяется фрагментированный экземпляр изразца большой руки с двуглавым орлом внутри витой рамки. Фрагменты аналогичного изразца были найдены в Тушинском лагере ( Филлипов , 1938. № 63; Двуреченский , 2018. № 432, 432а, 320. Рис. 72, 101, 102). Обратим внимание на несколько упрощенный рисунок изразца из Тушинского лагеря по сравнению с кремлевским. Возможно, это свидетельство более раннего происхождения последнего. Обломки еще трех лицевых пластин несут изображения растительных композиций.
Один экземпляр определяется как обломок фриза с растительным декором в виде переплетенных трехжгутовых побегов с «перцевидными» элементами и трилистниками. По низу фриза идет вместо рамки такая же витая полоска, как и на изображении орла, что может говорить о принадлежностиэтих изразцов одному комплекту (рис. 2: 5 ).
Перемычек найдено 9 штук. Изображения на шести из них представляют собой варианты стилизованного растительного орнамента, причем часть выполнена в двухжгутовой манере (рис. 2: 6 ), часть – в трехжгутовой (рис. 1: 4, 7 ). Еще два чрезвычайно редких экземпляра несут изображения фигур воинов (рис. 1: 2, 3 ). На каждой перемычке по 2 воина: вверху – копейщик, который смотрит вправо, внизу – воин с саблей, развернутый в другую сторону.
К этому же комплексу следует относить скопление обломков в центре раскопа, в которое входят 10 лицевых изразцов «большой руки» (размером 19,5 × 19,5 см). Их иконография представлена хорошо известными по раскопкам в Москве сюжетами и композициями ( Розенфельдт , 1968. Рис. 20: 6 , 10, 11 ; 21: 10 ): крупная длинноногая птица («журавль»), всадник (охотник) с соколом в руке, штурм города (рис. 1: 1, 5 ), несколько растительных композиций, выполненных в трехжгутовой технике (рис. 3: 1 , 2, 7 ). По меньшей мере три экземпляра имеют следы обгорания внешней поверхности. Почти все изразцы сохранили хорошо выраженный либо даже сплошной слой побелки, у некоторых на румпе остатки печной глины. Все это свидетельствует об их достаточно быстром и однократном выпадении в культурный слой.
Скорее всего, все упомянутые изразцы из центра раскопа, так же как и найденные в линзах рыжей глины, отложились в процессе утилизации печной облицовки либо во время ремонта печей, либо во время сноса зданий Старых Приказов. Впоследствии они были перекрыты полами новых палат, возведенных на этом месте, и сохранились in situ . Планиграфический и стратиграфический контекст указанных находок позволяет предположить, что они составляли некогда единый печной набор.
То, что изразцы происходят из культурных отложений, синхронных Старым Приказам, дает основания для предварительной датировки данного печного декора. Насколько позволяют судить известные аналогии, значительная, если не большая, часть рассматриваемых изразцов представлена ранними типами, бытовавшими в конце XVI в. и первой трети следующего столетия. Подобные изразцы присутствуют в коллекции, собранной на месте Тушинского лагеря

Рис. 1. Красные печные изразцы из слоев времени существования Старых Приказов (конец XVI – третья четверть XVII в.)
1, 5 – лицевые; 2 – 4, 7 – перемычки; 6 – городок

Рис. 2. Красные печные изразцы из печных наборов в Старых Приказах 1, 4 – лицевые; 2, 6 – 10 – перемычки; 3, 5 – фризы

Рис. 3. Красные печные изразцы из разных комплексов XVII–XVIII вв. ( 1–4, 6, 7 ) и обломок белоглиняной поливной перемычки XVI в. ( 5 )
Лжедмитрия II ( Двуреченский , 2018), а также в материалах исследований подмосковных резиденций Б. Ф. Годунова – Вязём и Борисова городка ( Янишевский , 2012; Смирнов , 2015). Аналогичные экземпляры происходят также из датированных слоев и комплексов, изученных в ходе раскопок на Романовом дворе, в Новодевичьем монастыре, в Трехсвятительском переулке, на подмосковном селище Игнатьево 2 ( Мирясова , 2009; Смирнов, Алексеев , 2019; Беляев , 2019; Беляев и др ., 2019).
В качестве примеров можно привести изразцовые перемычки с фигурами воинов1, с «противопоставленными» криновидными фигурами ( Мирясова , 2009. Рис. 174: 4 ; 175: 4 ; Янишевский , 2012. Рис. 12: 1 ) и с различными вариациями растительных орнаментов, включающих характерные розетки – «крестоцветы» (рис. 2: 9 , 10 ) ( Смирнов , 2015. Рис. 4: 7, 8, 10 ; 6: 1, 2 ). Все эти рисунки выполнены контурным способом.
К ранним вариантам фризов относятся экземпляры с двойной рамкой по краю и растительной композицией из переплетенных ветвей с шипами и крупными листьями (или плодами), внутренняя часть которых заполнена косой штриховкой (рис. 2: 3 ) ( Раппопорт , 1955. Рис. 8; Смирнов , 2015. Рис. 5: 3 ; 7: 1, 2 ).
К этой же ранней категории относятся лицевые изразцы со стилизованным изображением пальм в «саду» и некоторыми другими растительными композициями с центральной и осевой симметрией рисунка ( Мирясова , 2009. Рис. 170: 5 ; Смирнов , 2015. Рис. 3: 7 ; Двуреченский , 2018. Рис. 76: 308, 311 ; 74: 327 ).
Повторимся: все вышеперечисленные изразцы известны в комплексах конца XVI – начала XVII в. Москвы и Подмосковья и являлись облицовкой одной или нескольких синхронных печей, которые можно датировать временем существования Старых Приказов, т. е., собственно, концом XVI – началом XVII в.
Следующую, более позднюю, стратиграфическую позицию занимал незначительный по мощности слой, сложенный темно-серой супесью с обильными угольными включениями и следами древесного тлена, перекрытый прослойкой извести. Этот слой отложился в финале существования Старых Приказов и в ходе строительства в 1675–1683 гг. комплекса Новых Приказов. Из него происходила целая серия изразцов.
Отметим два из них: часть лицевой пластины с «пальмой» (древом жизни) и охраняющими ее единорогами (рис. 2: 4 ) и нижнюю часть изразца с фрагментарно сохранившимся изображение коня (с всадником) или единорога. Оба экземпляра уникальны (не имеют известных аналогов) и носят следы обгорания в открытом огне: у первого обожжена лицевая поверхность, у второго – рум-па. Учитывая углистый характер слоя залегания, это может служить свидетельством пожаров на финальном этапе существования зданий Старых Приказов.
Культурный слой, залегавший выше строительного горизонта возведения Новых Приказов, отложился за время существования этого комплекса с 80-х гг. XVII в. по 1770 г. (при этом отложения 1750–1760-х гг. на участке раскопа были, вероятно, срезаны при разборке здания в 1769–1773 гг.). Количество обнаруженных в нем красных изразцов в пять раз меньше, чем в нижележащих слоях.
Практически все эти находки происходят из внутреннего объема помещений Новых Приказов, но, скорее всего, не имеют отношения к согревавшим их печам по причине асинхронности. По общепринятому мнению, красные широкорамочные изразцы уже не используются в Москве во второй половине XVII в.
Обращает на себя внимание «видовой состав» изразцов, собранных в данном слое. Наиболее отчетливое представление о его особенностях дают изразцовые перемычки. Среди них практически отсутствуют композиции, характерные для «слоя Старых Приказов», т. е. перемычки с изображениями фигур воинов, с «крестоцветами» (найден лишь один подобный экземпляр), с изображениями гирлянды из пальметт и пучков листьев, перевязанных хомутиком. Зато имеются варианты двух других рисунков, которые полностью отсутствуют в нижележащих слоях (или представлены там иными модификациями). В частности, найдено 8 экземпляров перемычек с орнаментальной композицией из переплетеных «остроовальных элементов» и кринов, выполненных в двухжгутовой манере (рис. 2: 7, 8 ). Вторую группу составляют 5 перемычек со стилизованным растительным орнаментом из кринов, перехваченных хомутиками, каплевидных, ромбовидных элементов и побегов с характерной точкой в центре композиции, выполненных в трехжгутовой манере (рис. 3: 6 ).
Следует заметить, что, хотя в этом слое не собрано перемычек с изображениями гирлянды из пальметт и пучков листьев, перевязанных хомутиком, здесь имеется 6 экземпляров фризовых изразцов с аналогичным орнаментом, которые присутствуют и в более раннем слое (рис. 3: 3 ).
Скорее всего, такая ситуация не является случайной. Отсутствие одних разновидностей и наличие других может свидетельствовать о характере формирования слоя и об источниках его насыщения культурными остатками. Отмеченные в «слое Новых Приказов» разновидности перемычек и фризов, видимо, попали внутрь приказных помещений вместе с грунтом и строительным мусором (кирпичным боем) при ремонтных работах, связанных с настилкой полов. Материал, использованный для подсыпки под половицы, брался за пределами зданий, вероятно, с прилегающей территории. В его составе оказалось некоторое количество недавно утилизированных (не «выхоженных») изразцов. Пока трудно сказать, отражает ли специфический состав этой группы некие хронологические аспекты эволюции изразцового декора или он всего лишь указывает на происхождение из разных, но в целом синхронных печных наборов. В первом случае обнаруженные изразцы должны быть по времени более близки к периоду накопления вмещающего слоя, а во втором – они были извлечены из облицовки печей, существовавших ранее, но в каких-то иных постройках (может быть, даже не связанных с приказными палатами).
Можно упомянуть еще два обломка, нахождение которых в «слое Новых Приказов», судя по контексту залегания, объясняется ремонтными работами. Один из них представляет собой часть лицевого изразца с изображением двуглавого орла (орел находится внутри кольцевого ободка, обведен по периметру кантом из мелких треугольников, перья крыльев имеют крючковидное завершение, лапы «оторочены» мелкими штрихами, хвостовое оперение плотное, веерообразное). Данный обломок (рис. 2: 1) обнаружен среди истлевших остатков одного из деревянных полов приказного помещения, настеленного в последней четверти XVII в. На аналогичных московских изразцах не только хвост, но и длинные шеи и головы орла заполнены крупной штриховкой, такой же, как на одном из фризов (рис. 2: 3) и на одной из перемычек (рис. 2: 2). То есть, скорее всего, матрицы для этих изразцов были выполнены одним мастером.
Отсюда же происходит обломок изразцовой перемычки с орнаментальной композицией из стилизованных криновидных фигур. Перемычки со схожими орнаментами были встречены в «слое Старых Приказов» (см. рис. 1: 7 ), однако данный экземпляр является в целом более упрощенной версией.
Наряду с элементами печного убранства, привнесенными извне, в составе «слоя Новых Приказов» находилось незначительное количество обломков изразцов, чье присутствие здесь логичнее всего объяснить перемещениями из нижеле-жавшего слоя в ходе земляных работ (например, связанных с откапыванием траншей под фундаменты нового здания). Это обломок лицевого изразца с частью изображения «крылатого» всадника, обнаруженный в заполнении белокаменной камеры (ретирады) Новых Приказов, которое сформировалось не позднее начала XVIII в. Рядом с этой постройкой, в слое извести, связанном со строительством Новых Приказов, были встречены еще несколько изразцов, главным образом, перемычек. Одна из них, почти целая, украшена гирляндой из пальметт и пучков листьев, перевязанных хомутиком. Вся поверхность изделия густо облеплена известью, что позволяет отнести его попадание в комплекс к моменту строительства. Отметим крупный обломок другой перемычки, демонстрирующий редкую композицию из стилизованных изображений пальм (рис. 3: 4 ).
В незначительном количестве обломки красных изразцов были встречены даже в горизонте разрушения Новых Приказов, содержавшем, помимо прочего, большое количество муравленых и рельефных полихромных изразцов середины – второй половины XVII в. Строительный мусор тогда был перемещен и рассредоточен по значительной площади в ходе нивелировки поверхности под строительство проектировавшегося В. И. Баженовым дворца. Красные изразцы, попадающиеся в этом слое, могли быть «захвачены» при столь масштабных работах как из нижележащих слоев в пределах территории, подвергавшейся планировке, так и перемещены с совершенно иных мест.
Подводя итоги, следует заметить, что, хотя в основном «ассортимент» обнаруженных красных изразцов представлен известными орнаментальными композициями и «классическими» сюжетами, среди них встречается некоторое количество ранее неизвестных или крайне редких экземпляров. При этом совершенно нет изразцов с надписями.
Подавляющее большинство лицевых рамочных изразцов относится к размерному классу «большой руки» (19,5 × 19,5 см) с шириной рамок 1,3–2,4 см, но есть и обломки от изразцов «малой руки», в частности один из изразцов с изображением двуглавого орла. Фризы имеют высоту 10,5 см. Длина сохранившихся целых вертикальных перемычек варьирует от 17 до 19 см. Ни одной целой горизонтальной перемычки собрано не было. Практически все изразцы имеют следы побелки на лицевой поверхности и следы нагара на внутренней поверхности румп, что говорит об их использовании в действовавших печах.
Таким образом, анализ находок красных печных изразцов с территории Большого сквера Московского Кремля в ходе работ 2019 г. позволяет судить о типологии этих предметов, об обстоятельствах их выпадения в культурный слой и характере залегания в составе культурных отложений. В связи с этим можно выделить несколько археологических контекстов, обладающих различной степенью информативности для проводимых исследований.
Наибольшее количество изразцов было обнаружено в «слое Старых Приказов» конца XVI – третьей четверти XVII в. Особый интерес представляют скопления обломков, происходящие из линз рыжей, частично обожженной, глины с включениями битого кирпича в верхней части этого слоя. Вероятно, эти пятна представляют собой остатки выброса печного материала от разрушенных отопительных устройств Старых Приказов. Изразцы, собранные при разборе слоя, отложившегося внутри помещений Новых Приказов, могут иметь двоякое происхождение. Лишь небольшая их часть могла быть связана с нижележавшим слоем, откуда они были перемещены в ходе локальных земляных работ. Другие экземпляры могли попасть внутрь приказных помещений вместе с грунтом и строительным мусором (битым кирпичом), взятыми с прилегающей территории в качестве подсыпки под полы. Обломки изразцов, встреченные в слое разрушения Новых Приказов, очевидно, оказались там в переотложенном состоянии вместе со строительными остатками от разрушенных зданий.
Наряду с доминировавшими красными изразцами, найдены единичные белоглиняные изразцы, покрытые прозрачной поливой желтых и зеленых тонов, которые представляют иную, хронологически более раннюю, разновидность печного изразцового декора. В строительном горизонте Старых Приказов были обнаружены 3 небольших обломка: два из них принадлежали витым перемычкам, покрытым бледно-зеленой прозрачной поливой (рис. 3: 5 ), а один – какому-то другому элементу печного набора с золотисто-желтой поливой. В нижней части хронологически последующего слоя Старых Приказов найдены фрагмент городка (покрыт поливой золотисто-желтого цвета) и практически целый квадратный лицевой изразец с необычной для России приподнятой под углом орнаментальной рамкой из иоников с овами и бусин с желто-коричневой глазурью ( Беляев и др ., 2020. Рис. 1, 2). Возможно, это «намек» на присутствие в комплексе Старых Приказов «ценинной» изразцовой печи, существовавшей синхронно с печами в «красных» беленых изразцах.
Но все же гораздо вероятнее, что это остатки какого-то отопительного устройства одного из дворцов или, например, Посольского приказа, построенного в 1560-е гг. В пользу данной версии может свидетельствовать обнаружение в слое, залегавшем ниже строительного горизонта 1590-х гг., еще двух мелких обломков, вероятно, принадлежавших еще одному аналогичному поливному изразцу (Там же. Рис. 1: 1 ). Однако в отличие от упомянутого изразца, изготовленного из светлой глины с минимальным количеством включений и покрытого желто-коричневой прозрачной поливой, обломки этого экземпляра состояли из совершенно иной по фактуре массы грязно-кремового цвета (что указывает на использование в качестве сырья слабоожелезненной глины), а покрывающая их полива была желто-зеленой и помутневшей. Возможно, эти незначительные с виду фрагменты станут первым свидетельством попытки изготовления поливных изразцов в Москве.
Таким образом, находки печных поливных изразцов раннего облика заставляют предполагать наличие в непосредственной близости от места проведения раскопок высокостатусной постройки XVI в. Дальнейшие исследования дадут дополнительную информацию для изучения ранних периодов бытования изразцового декора.
Список литературы Красные печные изразцы из раскопок в Большом сквере Московского кремля
- Баранова С. И., 2008. Новые данные о ранних видах московского керамического декора // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры / Сост.: А. Л. Баталов, Н. А. Кренке. М.: ИА РАН. С. 374–393.
- Баранова С. И., 2011. Русский изразец. Записки музейного хранителя. М.: Московский гос. объед. музей-заповедник. 432 с.
- Баранова С. И., 2015 К истории первых находок изразцов в Московском Кремле // Образ христианского храма. Сборник статей по древнерусскому искусству к 60-летию А. Л. Баталова / Министерство культуры РФ, Институт искусствознания. М.: Арткитчен, С. 524–548.
- Беляев Л. А., 2019. Научный Отчет об археологических изысканиях (при проведении работ по сохранению (раскопках)) на территории объекта культурного наследия федерального значения «ансамбль Новодевичьего монастыря». г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1, в 2019 г. // Архив ИА РАН.
- Беляев Л. А., Глазунова О. Н., Григорян С. Б., Елкина И. И., Шуляев С. Г., 2019. Археология московского Новодевичьего монастыря: первые итоги // РА. № 4. С. 192–207.
- Беляев Л. А., Глазунова О. Н., Смирнов А. Н., 2020. Изразцы конца XVI – первой половины XVII в. по материалам раскопок 2019 г. в Московском Кремле // РА. № 3. С. 114–124.
- Двуреченский О. В., 2018. Тушинский лагерь (Публикация коллекции В. А. Политковского из собрания ГИМ). М.: ИА РАН. 196 с.
- Макаров Н. А., Коваль В. Ю., Яганов А. В., Модин Р. Н., Панченко К. И., 2020. Новые исследования в Московском Кремле: раскопки здания Приказов // РА. № 3. С. 96–113.
- Маслих С. А., 1983. Русское изразцовое искусство XV–XIX веков. М.: Изобразительное искусство. 270 с.
- Мирясова А. А., 2009. Красноглиняные изразцы Романова двора // Археология Романова двора: Предысторя и история центра Москвы в XII–XIX веках / Авт.-сост. Н. А. Мирясова. М.: ИА РАН. С. 120–129.
- Раппопорт П. А., 1955. Борисов городок. Материалы к истории строительства Бориса Годунова // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 3. М.: Изд-во АН СССР. С. 59–76. (МИА; № 44.)
- Розенфельдт Р. Л., 1968. Московское керамическое производство XII–XVII вв. М.: Наука. 124 с. (САИ; вып. Е1-39.)
- Смирнов А. Н., 2015. Печные изразцы из раскопок дворцового комплекса Б. Ф. Годунова в селе Вязёмы // АП. Вып. 11 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 526–535.
- Смирнов А. Н., Алексеев А. В., 2019. Стратиграфия и хронология селища Игнатьево 2 по материалам охранных раскопок 2015 года // АП. Вып. 15 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 189–213.
- Султанов Н. В., 1894. Древнерусские красные изразцы // Археологические известия и заметки, издаваемые Московским археологическим обществом. № 12. С. 369–387.
- Филиппов А. В., 1938. Русский изразец. Вып. 1. М.: Всесоюзная академия архитектуры. 90 с.
- Янишевский Б. Е., 2012. Раскопки на Борисовом городке в 2009 году // АП. Вып. 8 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 229–245.