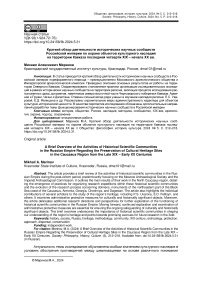Краткий обзор деятельности исторических научных сообществ Российской империи по охране объектов культурного наследия на территории Кавказа последней четверти XIX - начала XX вв
Автор: Меринов М.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится краткий обзор деятельности исторических научных сообществ в Российский империи пореформенного периода - преимущественно Московского археологического общества и Императорской археологической комиссии. Приведено описание основных результатов их работы на территории Северного Кавказа. Охарактеризовано становление практики организации исследовательских экспедиций в рамках исторических научных сообществ на территории региона, эволюция процесса исследования расположенных здесь дольменов, памятников северо-восточной части Черноморского побережья Кавказа, Армении и Грузии, Чечни и Дагестана. Отмечен личный вклад ряда ученых в изучение наследия региона: П.С. Уваровой, Е.Д. Фелицына и др. Рассмотрены охранительные меры административного характера для объектов культурно-исторической ценности. В качестве перспектив исследования обозначены дополнительные направления разработки темы функционирования исторических научных сообществ в Российской империи.
История, общество, Россия, наследие, методика, сообщество, xix век, археология, охрана, подход, сохранение
Короткий адрес: https://sciup.org/149145535
IDR: 149145535 | УДК: 93(1-924.72/.76) | DOI: 10.24158/fik.2024.5.31
Текст научной статьи Краткий обзор деятельности исторических научных сообществ Российской империи по охране объектов культурного наследия на территории Кавказа последней четверти XIX - начала XX вв
нравственных ценностей. Сохранение его, изучение и актуализация являются необходимой и значимой задачей для реализации национальных проектов РФ, определяющих стратегию развития нашей страны, закрепленную в основополагающих законах РФ, Конституции и предполагающую необходимость поддержки и охраны культуры в целом (ч. 4, ст. 681), обязанность граждан РФ заботиться о сохранении национального наследия (ч. 3, ст. 442). Одним из способов осуществления этого являются научные исследования. В рамках сказанного мы проведём краткий обзор деятельности исторических научных сообществ Российской империи на территории Северного Кавказа конца XIX – начала XX вв.
Многонациональный и поликонфесиональный Кавказ в административно-территориальном отношении подвергался неоднократным изменениям, к концу XIX в. он делился на Северный Кавказ и Закавказье. Однако с точки зрения культурного наследия и его охраны такое разграничение выглядело неестественным. Это осознавали как государственные, так и научные деятели Российской империи, уделявшие большое внимание сохранению объектов культурного наследия региона. Ведущие организации страны в этой сфере оказывали сообществам Северного Кавказа и Закавказья научно-методическую, организационную и финансовую поддержку, что свидетельствовало о признании значимости исторического наследия отдельных народов.
Начиная с последней трети ХХ в., научным и культурным центром Кавказа стал Тифлис. Здесь ещё с 27 июня 1850 г. действовало Кавказское отделение Императорского Российского географического общества (ИРГО) которое занималось также вопросами истории, традиционной культуры, языкознания разных народов региона. Возникли и функционировали несколько научных обществ: «Общество любителей Кавказской археологии», «Кавказское общество истории и археологии», «Ставропольское епархиальное церковно-археологическое общество», «Общество любителей изучения Кубанской области», «Армянское этнографическое общество», «Грузинское общество истории и этнографии», «Терское общество любителей казачьей старины», «Ставропольское общество изучения Северного Кавказа», «Армянское историческое и археологическое общество», «Кутаисское общество истории и этнографии», «Общество любителей армянских древностей»3. В Тифлисе издавались: «Сборник сведений о кавказских горцах» (с 1868 г.), «Сборник сведений о Кавказе» (с 1871 г.), «Сборник материалов для описаний местностей и племен Кавказа», «Записки Общества любителей Кавказской археологии». В соответствии с уставами указанных организаций их целью являлось сохранение от разрушений и расхищений, а также изучение ценных сооружений и других памятников Кавказа.
Наряду с местными исследователями в этом отношении много сделали Императорская археологическая комиссия (ИАК) и Московское археологическое общество (МАО). Если до 1880-х гг. можно говорить о существенной роли ИАК, то в последующие годы приоритет уже принадлежал МАО. С археологического съезда (Тифлис 1881 г.), определившего основные направления памятникоохранной деятельности, берет начало систематическое и комплексное исследование региона.
Деятельность ИАК на Кавказе делится на несколько периодов. В 1859–1874 гг. исследования проводились лишь силами членов комиссии и в основном на Таманском полуострове, а также в области войска Донского. Период 1875–1885 гг. – время активизации деятельности комиссии и расширения ее географии. В 1886 г. к работам активно привлекалась местная интеллигенция (Колесникова, 2015: 282). ИАК принимала участие в создании «Общества любителей кавказской археологии», а начиная с 1861 г. ставила вопрос об изучении и охране городища Маджары. Однако только в 1907 г. раскопки на этой территории произвел В.А. Городцов (Бабенко, 2015).
ИАК выдавала разрешения и деньги на ведение раскопок местной интеллигенции при наличии рекомендаций от уже известных исследователей и непосредственном их наблюдении (Колесникова, 2015).
В 1874–1879 и 1881–1883 гг. член ИАК В.Г. Тизенгаузен проводил археологические исследования Тамани, вел раскопки Семибратних курганов на левом берегу Кубани; близ станиц Абинской и Сенной Кубанской области, в окрестностях Анапы. По итогам работ исследователем были предоставлены отчеты с приложением описей находок (Колесникова, 2015).
Памятники Кавказа также изучали другие члены ИАК – А.А. Бобринский, Н.И. Кондаков, Д.Я. Самоквасов, Н.Я. Марр и т.д. Особо активно работал Н.И. Веселовский, который начиная с 1889 г. исследовал сотни курганов (в том числе известный Майкопский курган в 1897 г.).
Н.П. Кондакову 28 июня 1889 г. было поручено изучение монастырей Кавказа и составление описи находящихся там предметов.
В 1886 г. преподаватель Владикавказского реального училища В.И. Долбежев, являющийся членом-сотрудником Императорского Русского археологического общества (ИРАО), по поручению ИАК проводил раскопки в отдельных районах Терской области и Тифлисской губернии1. В 1887 г. он продолжил раскопки около селений Санибай, Камынте, Галлиате, Лезгур2. В 1888 г. В.И. Долбе-жев некоторое время работал совместно с председателем ИАК графом А.А. Бобринским, проводившим раскопки в Терской области. В 1889 г. исследователь продолжал изучение Терской области по поручению ИАК3.
В 1886 г. по ходатайству комиссии главноначальствующий на Кавказе князь А.М. Дондуков-Корсаков командировал в Сухумский округ известного специалиста кавказских древностей действительного статского советника Д. Бакрадаева для исследования обнаруженных в с. Полтавском древней церкви и предметов богослужения4.
Другой знаток кавказской старины, издатель грузинских церковных грамот (гуджаров), действительный статский советник, кахетинский помещик Д. Пурцелидзе посетил и описал развалины древних городов в Тифлисской губернии5.
С 1892 г. Н.Я. Марр приступил к исследованию древностей русской Армении, которое продолжалось несколько последующих лет6.
В 1894 г. по заданию ИАК проводил раскопки и изучал древние грузинские церкви инспектор дворянского Тифлисского пансиона Е.С. Такайшвили в Тифлисской губернии. Он исследовал и снял надписи в церквях сел Квеши, Дбанис, Хазрет, Тандзи и Гуджаб. Кроме того, совершил предварительную поездку в Грузию, где около станицы Натанеби осмотрел развалины древнего, возможно, греческого города и место находки глиняных гробов с золотыми классическими вещами7.
С 1895 г. ввиду обнаружившихся в Кубанской области фактов хищений древностей из курганов ИАК сочла необходимым немедленно организовать в наиболее опасных местах систематические раскопки, которые были поручены старшему члену комиссии Н.И. Веселовскому. В указанном году были произведены археологические работы близ станиц Крымской, Ярославской, Бесленеевской, Псебайской и в окрестностях Анапы8. Продолжал он исследование области и в последующие годы9.
Серьезное значение исследованию Кавказа придавало МАО. В.Б. Антоновичем, А.С. Уваровым, В.Ф. Миллером, Д.Я. Самоквасовым были написаны специальные программы. Привлекались к работе и местные силы, в частности: Д.З. Бакрадзе, В.Г. Вейденбаум, А.Н. Смирнов, А.И. Стоянов, А.Д. Ерицов, В.И. Чернявский, Е.Д. Фелицын и др. Обследованы многие территории Кубанской и Терской областей, Черноморской губернии Дагестана, северных предгорий Кавказа, бассейна р. Куры, Мингрелии, Аджарии, Гурии, окрестностей Арарата, осмотрены места древних городов, развалины храмов и мечетей, высеченные в горах жилищах, дольмены, описаны рукописи Эчмиад-зинской библиотеки. В 1881 г. на Тифлисском археологическом съезде исследователи выступили с докладами о материальном и нематериальном культурном наследии региона, среди них: А.А. Ца-гарели с сообщением «Сведения о памятниках грузинской письменности»; Н.И. Петров – «О миниатюрах греческого Никодимийского евангелия ХIII. в сравнении с миниатюрами евангелия Гетат-ского монастыря XI в.»; А.А. Авдеев – «О планах церквей Грузии и Армении и их отношении к планам церквей византийских»; Д.Я. Самоквасов – «Могильные древности Пятигорского округа»; И.В. Султанов – «Русские шатровые церкви и их отношение к грузино-армянским пирамидальным покрытиям»; В.Ф. Миллер – «Кавказские легенды о Прометее»; В.В. Антонович – «О погребальных обычаях древних жителей Кавказа»; А.И. Кельсиев – «О каменных бабах».
После тифлисского съезда изучение объектов культурного наследия Кавказа продолжалось тремя путями, а именно через: 1) научные экспедиции; 2) привлечение местной интеллигенции к выявлению, собиранию и описанию памятников; 3) изучение и издание собранного материала. Систематическому изучению памятников Кавказа на основе разработанной специальной программы способствовали и денежные дары императора от 14 марта 1886 г. и 17 февраля 1888 г. в сумме 25 тыс. руб. Приоритетное внимание уделялось объектам, которым угрожала наибольшая опасность.
После отмеченного съезда была образована комиссия в составе П.С. Уваровой, Д.Н. Анучина, И.Е. Забелина, В.О. Ключевского, В.О. Миллера, Н.В. Никитина, М.В. Никольского, А.В. Ореш-никова, А.М. Подшивалова, А.М. Павлинова, В.И. Сизова, В.В. Румянцева по подготовке и снаряжению экспедиций. Уже летом 1882 г. была снаряжена экспедиция в Дагестан для осмотра пещер. Но особенно активизировалась экспедиционная форма исследования с 1886 г. после заседания МАО. На нем Н.В. Никитин представил программную статью вице-президента Кавказского общества любителей археологии, в которой давался краткий анализ состояния и изученности христианских памятников на Кавказе. Ученый отмечал, что наименее изученными на тот момент являлись ценные в историческом и художественном отношении многочисленные памятники церковного зодчества, начиная с IV в. – времени утверждения христианства в Армении и Грузии.
В течение последующих пяти – шести лет было организовано девять экспедиций, отчёты об этих экспедициях публиковались в «Древностях» МАО1.
Представители местной научной общественности предлагали собственные экспедиционные маршруты. В частности, 12 апреля 1886 г. Д. Бакрадзе обратился в МАО с письмом, в котором указывал на необходимость направить научную экспедицию в Араксский и Чорохский бассейны и начать исследование уцелевших и разрушенных памятников2. Свою программу раскопок представил в письме на имя председателя МАО П.С. Уваровой директор Кутаисской гимназии А.И. Стоянов.
Основная задача экспедиций на Кавказ состояла в выявлении и изучении по возможности всех древних памятников христианства Кавказа, а также в выяснении их влияния на русское искусство. Исследовались наименее изученные районы. Экспедиция В. Миллера начала работу в июне 1886 г. с территории Осетии, Чечни и горной части Кабарды.
Восточное побережье Черного моря от Новороссийска к югу в Абхазию изучили Н.В. Никитин и В.И. Сизов3. На территории от Новороссийска до Сухума важными оказались находки дольменов, их разновидности. Они были обнаружены в ущелье р. Адербиевки, по р. Пеладе, р. Джубе, в Люлькином ущелье. Эти дольмены оказались идентичны с теми, которые были уже изучены Е.Д. Фелицыным на северном склоне Кавказского хребта4.
В экспедицию в Дагестан был включен местный уроженец И.Ш. Анисимов как знаток преданий о хазарах и хазарских царях. Он исследовал территории Дагестана, приграничные районы Елизаветопольской и Бакинской губерний, Терскую область. И.Ш. Анисимов записал многие предания и зарисовал памятники, сделал перевод книги Дербентской истории («Дербент неме»), написанной, по преданию, мирзами шамхалов Дагестана на арабском и фарсидском языках.
А.М. Павлинов совместно с фотографом общества И.Ф. Барщевским ставил главной целью своей исследовательской работы осмотр христианских памятников на Кавказе для фотографирования наиболее интересных. Однако примечательно то, что территория экспедиции была значительно шире. Начал он с исследования особенностей древней архитектуры Рязани. Затем посетил Храм св. Софии и пещеры Варлаама в Киеве и после этого направился в Крым. На полуострове предметом его изучения стала татарская архитектура как малоисследованный объект культурного наследия. Наиболее интересные памятники тщательно обмерялись и измерялись, все данные фиксировались5.
П. Уварова обследовала северную часть Батумской области (Аджарию и Шавшетию). В ущелье р. Схалты ею был найден самый большой храм, а около сел Хуло, Хихадзири обнаружены развалины церквей. За месяц работы в уезде удалось осмотреть 12 памятников. Завершилась экспедиция П. Уваровой изучением археологического наследия во Владикавказе и в целом Терской области6.
Значительную роль в исследовании региона сыграл член-корреспондент МАО Е.Д. Фелицын, особенно в изучении мегалитических памятников. Он возглавил созданный в 1879 г. Кубанский областной статистический комитет. В том же году основал при нем музей, который получил самостоятельный статус уже после его смерти (1903 г.) – в 1907 г. Е.Д. Фелицын занимался археологией края, выявлением, описанием, сбором и охраной памятников материальной культуры, а также нематериального наследия, в том числе горского населения Кубанской области. В 1879 г. он обнаружил в Екатеринодаре и отправил в Москву две греческие плиты, считавшиеся уже потерянными для науки, на которых значились имена Левкона, царя синдов, и Ксеноклида (IV в. до н. э.). В начале ХХ в. они были найдены казаками и до 1846 г. хранились в церкви станицы Ахтанизовской. Е.Д. Фе-лицын изучил и описал более 700 мегалитических гробниц (Науменко, 2016: 49). На заседании МАО
07 мая 1885 г. было принято решение о выделении исследователю 500 руб. для изучения дольме-нов1. Кроме этого, Е. Фелицын дал согласие на совместную экспедицию с В. Миллером по течению рек Чегема, Баксана и верховьям Кубани2. Почти через год, 05 марта 1887 г. он направил письмо в МАО из Екатеринодара с приложением 80 фотографий, относящихся к его очерку о памятниках христианства в Кубанской области. Также он сообщал, что летом будет заниматься изучением Черноморского округа и просил дополнительную субсидию на это. Из протокола заседания МАО от 17 марта 1887 г. следует, что на обозначенные им нужды было выделено 500 руб.3
Е.Д. Фелицын также инициировал принятие мер административного воздействия для совершенствования работы по охране памятников древности. Им было разработано циркулярное письмо, подписанное начальником Кубанской области, которое 19 декабря 1883 г. было направлено станичным сельским, поселковым, аульным, слободским и колонистским правлениям Кубанской области. Наряду с Е.Д. Фелицыным много сделали для сбережения памятников также К.Т. Живило, И.Е. Гладкий, В.М. Сысоев.
МАО оказывало методическую и практическую помощь регионам по реставрации недвижимых памятников. Так, 29 июня 1889 г. общество рассмотрело обращение экзарха Грузии Палладия от 03 мая того же года, в котором он информирует организацию о возможности реставрации храма ХII в. в имении Тигви Горийского уезда4.
В плане выявления, учета и изучения памятников в деятельности МАО плодотворными были и научные командировки в 1890–1892 гг. Так, из отчета общества видно, что за период с 01 февраля 1890 г. по 17 февраля 1891 г. имели место несколько научных командировок: П. Уварова (сопровождал её В.Л. Тимофеев) совершила поездку в Северную Осетию, посетив Дигорию, Тагаурию, Куртатию, а затем – Горийский уезд и завершающий пункт – Баку; А.С. Хаханов побывал в Ахалцыхском уезде, где изучал монументные памятники и надписи на них, древнегрузинские манускрипты, нумизматические и археологические предметы, находящиеся у частных лиц; П. Давыдов проводил исследования в Кутаисской губернии и в Батуми; К. Мачавариани изучил Цаленджихский монастырь эпохи Давида Строителя и царицы Тамары в Мингрелии5.
На заседаниях МАО обсуждались доклады и отчеты об итогах научных экспедиций и командировок. 07 мая 1890 г. обсуждался доклад Г.Д. Гуриели «Записка о древних развалинах Гурии (Озургетский уезд) и Турецкой Грузии (бывшая Батумская область)»6. 26 марта 1891 г. слушали сообщение А.М. Павлинова «Кавказские архитектурные памятники», которое представляло собой часть отчета о его поездке по Кавказу и касалось двух памятников – монастыря в Драндах и Кутаисского собора7. 21 января 1892 г. был заслушан доклад М.В. Никольского «О ванских надписях, найденных в пределах России». Сообщалось, что архиепископом Месропом Сумба-тянцом выявлено 20 надписей. Снимки с них он помещал в иностранных изданиях, что позволяло заниматься их дешифровкой и зарубежным ученым. Было принято решение о желательности раскопок в Ване8. 02 мая того же года обсуждался доклад А.Я. Иоакимова об итогах раскопок в районе города Елисаветполя. Были обнаружены развалины бывшего города: крепостная стена с бойницами двойных башен, моста, домов. В их числе остатки «Зеленой мечети», а также надгробный памятник Джемрад-Гасан (Щедрый Гасан), связанный с историей 600-летней давности, имевшей место в Гандже и повествующей о мяснике Гасане, который снабжал мясом город. В мусульманских летописях город упоминается как главный город Аррана9.
Отметим в качестве реальных позитивных итогов в работе МАО по сохранению памятников Закавказья следующие факты. 23 августа 1890 г. Горийский уездный предводитель дворянства И. Сулханов написал благодарственное письмо П. Уваровой за внимание к памятникам грузинской старины, их сохранение и изучение. Отмечены в этом отношении Никозский и Тогвский соборы.
Ходатайство МАО по сохранению Цихидзирской крепости, которую подрядчик строителя Батумского порта пытался разрушить с целью безвозмездной добычи строительного материала, поддержал батумский губернатор князь Г.Р. Эристов, что позволило защитить памятник культуры10.
Применительно к Северному Кавказу актуальной всегда была проблема изучения и сохранения дольменов. Педагог станичного (станица Баракаевская) училища Д. Трубачев подготовил сообщение «Описание дольменов близ станицы Баракаевской Кубанской области» и зачитал его на заседании МАО 07 мая 1890 г.1 02 мая 1892 г. П.С. Уварова выступила с докладом «О желательности исследований кавказских дольменов». Она отметила, что разработка данной проблемы началась еще в 1870-е гг. К Тифлисскому археологическому съезду Е.Д. Фелицыну было поручено исследование дольменов северного склона Кавказского хребта, а в 1886 г. ею лично было осуществлено подобное изучение восточного побережья Черного моря. В связи с чем была поставлена задача выяснения текущего положения дел, для чего была организована научная командировка В.М. Сысоева и Г.И. Куликовского летом 1892 г.2 Отчет о ней ответственные предоставили 06 октября 1892 г. Г. Куликовский изучил памятники в долинах рек Черек и Чегем, пересек Баксан, Малку, Подкумок, осмотрел ущелья рек Теберда, Большой Зеленчук и Кяфар. В Кубанской области он ознакомился и с древними памятниками христианства на Кавказе, были сделаны фотографии, рисунки, планы. В. Сысоев исследовал дольмены по долинам рек Афипса и Белая. В станице Шапсугской их было 22, но целиком сохранившихся – 7. Другим пунктом сосредоточения дольменов была станица Эриванская. Они встречались также по бассейнам верхнего течения рек Бугундырь, Антхыр, Большой, Малый и Общий Хабль, Иль и Убин. Почти все были разрушены и ограблены, а большие плиты их использовались населением как жернова. Раскопки дольменов не дали интересных результатов3.
Отношение к дольменам со стороны местных радикально не изменилось и спустя 15 лет: содержание циркуляра начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта М.П. Бабыча от 04 августа 1908 г. свидетельствует о том, что истребление этих памятников седой старины началось еще со времени покорения Западного Кавказа. Многие дольмены были разобраны населением на постройки и для изготовления жерновов. С целью их сохранения от варварского истребления невежественными людьми атаманам отделов предписывалось к концу декабря 1908 г. составить списки сохранившихся в целостности и разрушенных дольменов с указанием отдельных частей4. В циркулярах от 26 января 1909 г., 13 мая 1910 г., 25 октября 1911 г. наряду с дольменами обращалось внимание и на хищнические раскопки курганов ворами-кладоискателями с целью наживы, в результате чего уничтожались или продавались ценные археологические памятники, что наносило культурный урон государству. При выявлении фактов продажи памятников объекты исторического наследия подлежали конфискации как у продавцов, так и скупщиков, и передаче в Кубанский войсковой музей. В случае повторения ситуации правонарушители высылались из пределов Кубанской области или привлекались к уголовной ответственности.
Ужесточались и условия выдачи свидетельств на проведение археологических раскопок. Таковые получали лишь лица, имеющие необходимое образование, практический опыт, соответствующие навыки и ясные научные цели.
В последующих циркулярах и приказах начальник Кубанской области с сожалением констатировал, что уничтожение памятников продолжается. Хотя отмечал и положительные примеры. В частности, 20 марта 1912 г. он указал на действия атамана станицы Таманской, который привлек к уголовной ответственности 50 человек за кладоискательство и тайный сбыт археологических находок. Вместе с тем М.П. Бабыч призвал строже наказывать станичных атаманов, сельских и волостных старшин, не выполняющих требования циркуляров, чтобы «положить конец этому постыдному делу на Кубани»5.
Завершая наши рассуждения, следует сказать, что деятельность исторических обществ последней четверти XIX в. имеет актуализацию в современной России – например, продолжаются археологические исследования на Северном Кавказе, являющиеся преемственными по отношению к деятельности научных сообществ Российской империи. Вместе с этим необходима специальная работа по интенсификации памятникоохранной деятельности на Кавказе с целью защиты дольменов от растаскивания на стройматериалы, а курганы – от кладоискательских разграблений. Ужесточение требований к археологам позволяет проводить раскопки на профессиональном уровне, что положительно сказывается на их результатах.
В настоящей публикации была рассмотрена в основном деятельность таких исторических научных сообществ Российской империи, как ИАК и МАО. Изучение практики работы других объединений составляет перспективу нашей дальнейшей работы. Настоящая статья будет интересна исследователям-историкам и широкой общественности, которая обеспокоена сохранением культурного наследия РФ; публикация также призвана способствовать укреплению в социуме мнения о значимости деятельности исторических обществ в России конца XIX – начала XX вв.
Список литературы Краткий обзор деятельности исторических научных сообществ Российской империи по охране объектов культурного наследия на территории Кавказа последней четверти XIX - начала XX вв
- Колесникова М.Е. Охрана памятников старины на Северном Кавказе во второй половине XIX в. // Историко-культурное наследие Юга России. М., 2015. С 280-289. EDN: UWZDBI
- Бабенко В.А. Из истории культуроохранительной деятельности на Ставрополье во второй половине XIX в. // Историко-культурное наследие Юга России. М., 2015. С. 293-295.
- Науменко Е.В. Деятельность кубанских историков по охране культурного наследия (XIX - начала XX в.) // Наследие веков. 2016. № 3. С. 44-60. EDN: YMZPQH