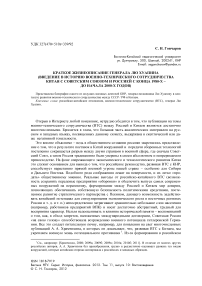Краткое жизнеописание генерала Лю Хуапина (введение в историю военно-технического сотрудничества Китая с Советским Союзом и Россией с конца 1980-х – до начала 2000-х годов)
Автор: Гончаров Сергей Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Представлена биография одного из ведущих военных деятелей КНР, генерал-полковника Лю Хуапину в контексте развития военно-технического сотрудничества между СССР / РФ и Китаем.
Российско-китайские отношения, военно-техническое сотрудничество (втс), генерал лю хуапин
Короткий адрес: https://sciup.org/14737654
IDR: 14737654 | УДК: 327(470+510)=339/92
Текст научной статьи Краткое жизнеописание генерала Лю Хуапина (введение в историю военно-технического сотрудничества Китая с Советским Союзом и Россией с конца 1980-х – до начала 2000-х годов)
Открыв в Интернете любой поисковик, нетрудно убедится в том, что публикации на темы военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Китаем являются достаточно многочисленными. Бросается в глаза, что большая часть аналитических материалов на русском и западных языках, посвященных данному сюжету, выдержана в скептической или даже негативной тональности.
Это вполне объяснимо – ведь в общественном сознании россиян закрепилось представление о том, что в результате поставок в Китай вооружений и передачи оборонных технологий постепенно сокращается разрыв между двумя странами в военной сфере, где сначала Советский Союз, а затем Россия традиционно были уверены в своем абсолютном и непререкаемом превосходстве. На фоне опережающего экономического и технологического развития Китая это служит основанием для вывода о том, что российское руководство, развивая ВТС с КНР, способствует нарастанию прямой военной угрозы нашей стране – особенно для Сибири и Дальнего Востока. Подобного рода соображения лежат на поверхности, и их легко «продать» общественному мнению. Реальные выгоды от российско-китайского ВТС (возможность сохранить передовые предприятия «оборонки» и обеспечить выпуск самых современных вооружений на перспективу, формирование между Россией и Китаем мер доверия, позволяющих обеспечивать собственную безопасность политическими средствами, постепенное развитие стратегического партнерства с Пекином, дающего возможность задействовать китайский потенциал для стимулирования экономического роста в восточных регионах России и т. д. и т. п.) непосредственно затрагивают сравнительно небольшие слои населения (например, работников предприятий ВПК) и носят достаточно абстрактный, трудный для восприятия характер. Нельзя недооценивать и влияния исторической памяти – воспоминаний о том, как, в обход запретов, наложенных международными договорами, Советская Россия «на свою голову» способствовала возрождению военного потенциала гитлеровской Германии. Все это создает питательную почву, например, для появления на свет многочисленных публикаций А. А. Храмчихина, в которых он доказывает, что, развивая ВТС с Китаем, мы укрепляем военную мощь потенциального противника 1. Из-за формирования в российском обществе такого настроя, создается достаточно некомфортная обстановка для публичных выступлений с пропагандой выгод от российско-китайского ВТС – вас сразу же обвинят в отстаивании узких ведомственных интересов.
С точки зрения большинства западных авторов, ВТС между Россией и Китаем, строго говоря, является не совсем легитимным и уж точно не респектабельным бизнесом – ведь США и Западная Европа ввели мораторий на поставки вооружений в КНР сразу после подавления студенческого движения в Китае 4 июня 1989 г. и соблюдают его до сих пор. Такая априорная убежденность в «порочности» российско-китайского ВТС, его пагубности для интересов и России и международного сообщества пронизывает, например, публикации на эту тему американского военного аналитика С. Бланка [Blank, 1997]. Его взгляды достаточно хорошо отражают оценки этой сферы российско-китайского сотрудничества, которые доминируют в западных СМИ и научных публикациях 2.
Конечно, и в России [Макиенко, 2002], и на Западе [Garnett, 2001] выходят работы, авторы которых стараются дать взвешенный анализ различных аспектов ВТС между РФ и КНР, опираясь на доступные им открытые материалы. Вместе с тем отнюдь не такие («пресные» с точки зрения СМИ) публикации определяют преобладающую тональность освещения в России и на Западе ВТС между Пекином и Москвой.
Совершенно очевидно, что китайские авторы придерживаются в описании ВТС с Россией гораздо более позитивного тона (см.: [Цуй Сяньтао, 2003. С. 333–344; Юй Синвэй, 2004]). Они подчеркивают, что его развертывание соответствует национальным интересам КНР и считают своим долгом защищать эту сферу сотрудничества от «необоснованных нападок», прежде всего, со стороны западников.
При всей разности выводов, к которым приходят авторы статей на темы ВТС, их объединяет то, что основное внимание уделяется, во-первых, различным факторам, влияющим на этот вид российско-китайского сотрудничества (уровень развития военной промышленности и интересы национальной безопасности двух стран, их внешняя и оборонная политика и т. п.), и, во-вторых, перечислению тех видов вооружений, которые, по мнению авторов публикаций, когда-либо поставлялись из России в Китай.
Вместе с тем практически не освещаются собственно история развития двустороннего ВТС, его внутренняя динамика, основные вопросы, обсуждавшиеся сторонами, проблемы и противоречия, возникавшие между партнерами. Причиной того, что все эти сюжеты до сих пор остаются вне пределов исследовательских работ, является закрытость российско-китайского ВТС, отсутствие материалов о его развитии.
С самого начала ВТС между Советским Союзом / Россией и Китаем по взаимному согласию сторон действительно было совершенно закрытой темой. Договоренность зачастую нарушалась российскими официальными представителями, допускавшими в публичных высказываниях разглашение информации о различных событиях и фактах, связанных с ВТС. В таком подходе сказывались, очевидно, большая открытость российского общества по сравнению с китайским, внутренняя неготовность российских чиновников новой генерации к соблюдению информационных запретов, стремление к тому, чтобы отличиться любой ценой (у нас в последнее время зачастую сообщение в прессе имеет для официальных лиц куда большее значение, чем событие, о котором сообщают). После каждого такого инцидента китайская сторона по дипломатическим каналам выражала протесты и требовала гарантий недопущения впредь утечек информации. За годы работы в российском посольстве в Пекине мне многократно приходилось бывать «вызванным на ковер» по таким поводам и отдуваться перед представителями Канцелярии по военно-техническому сотрудничеству Центрального Военного Совета (ЦВС) КНР, Главного управления вооружений НОАК или МИД КНР за чьи-то заявления или интервью.
В последнее время ситуация стала меняться: в Китае выходят книги и статьи, в которых гораздо подробнее, чем в России, освещается история двустороннего ВТС. Прежде всего, я имею в виду воспоминания заместителя Председателя ЦВС КНР генерал-полковника Лю
Хуацина [2004] 3. Надо сказать, что эта книга – одно из проявлений нового для Китая явления, когда государственные деятели самого высокого уровня издают весьма откровенные и детальные мемуары вскоре после выхода на пенсию4. Все эти книги являются ценными источниками по новейшей истории Китая и заслуживают самого пристального внимания. Они представляют собой весомое доказательство постепенно возрастающей открытости китайского общества. Воспоминания Лю Хуацина позволяют осветить многие ранее совершенно закрытые страницы ВТС Китая сначала с Советским Союзом, а затем с Россией.
Без знакомства с биографией Лю Хуацина просто невозможно понять особенности военно-технического сотрудничества Китая с Советским Союзом и Россией. В данной статье будет изложено жизнеописание Лю Хуацина. При этом я буду полагаться не только на письменные источники, но и на собственные воспоминания – мне посчастливилось лично общаться с генерал-полковником Лю Хуацином, много раз встречаться с ним по работе. Надеюсь, что этот материал явится скромным вкладом в увековечение памяти этого недюжинного человека и одновременно – своеобразным введением к истории военно-технического взаимодействия между Россией и Китаем.
Лю Хуацин 5 родился 20 октября 1916 г. в дер. Люцзяюаньцзы (подворье семьи Лю) уезда Дау пров. Хэбэй, в семье бедного крестьянина. Уже в 11 лет он стал письмоносцем местной подпольной ячейки компартии, а в декабре 1929 г. (т. е. в 13 лет) был в порядке исключения впервые принят в КПК, «перепрыгнув» через комсомол 6. Зимой 1930 г. Лю Хуацин на несколько месяцев стал командиром небольшого коммунистического партизанского отряда, боровшегося с войсками Гоминьдана. Вскоре после этого он вступил в 4-ю армию КПК, с которой оказалась связана вся его дальнейшая жизнь [Лю Хуацин, 2004. С. 7–14] 7.
В 1990-х гг., беседуя с российскими партнерами, Лю Хуацин, не отличавшийся высоким ростом, любил говаривать, что вступил в Красную Армию, когда был ростом с винтовку. Ему также понравился тост, произнесенный однажды в его честь российским вице-премьером А. Н. Шохиным: «Желаю присутствующим прожить столько лет, сколько товарищ Лю Хуа-цин прослужил в армии». Основания имелись и для того, и для другого высказывания.
С партизанских времен у Лю Хуацина сформировался весьма аскетический стиль жизни, который сохранился и в период, когда он стал большим начальником. Так, в декабре 1995 г. он прибыл с очередным официальным визитом в Россию. Во время посещения Тулы основную часть китайской делегации разместили в гостинице «Московская», недалеко от железнодорожного вокзала. Лю и сопровождающих его лиц поселили за городом, на бывшей обкомовской даче. Для китайских переводчиков, охраны, связистов и адъютантов выделили помещение рядом с комнатой Лю Хуацина и его супруги. Вскоре выяснилось, что в этом помещении кроватей на всех не хватает, среди сопровождающих начался ропот. Лю Хуацин вышел из своей комнаты, осмотрелся и отдал приказ: кровати вынести, расстелить матрасы на полу и немедленно прорепетировать размещение на ночлег. После того как Лю с удовлетворением констатировал, что теперь места хватило всем, он как бы про себя отметил, что в молодости ему приходилось партизанить в неизмеримо более суровых условиях.
В конце 1930-х – 1940-е гг. Лю Хуацин воевал в составе 4-й армии. Под началом легендарного маршала Лю Бочэна он участвовал в нескольких сражениях, отразивших попытки японской армии захватить г. Тайюань (С. 84–98). В этот период судьба свела будущего генерала со многими людьми, которые после основания КНР в октябре 1949 г. стали высшими руководителями государства. Особое значение имело то, что Лю Хуацин познакомился и установил хорошие отношения с Дэн Сяопином, которого назначили политкомиссаром 129-й дивизии 4-й армии (С. 95–97). Это несомненно сыграло важную роль в последующей карьере Лю Хуацина.
В ноябре 1989 г., выдвигая Лю на должность заместителя Председателя ЦВС, Дэн Сяопин отметил, что у Цзян Цзэминя, которого только что назначили руководителем этой высшей военной руководящей структуры, не так уж велик опыт общения с войсками и в помощь ему необходимо выделить авторитетного профессионального военного. Он отметил, что Лю Хуацин, начинавший свой служебный путь в 4-ой Красной армии, откуда вышли многие представители военного командования НОАК, хорошо подходит на эту роль (С. 576).
В конце 1949 г. Лю Хуацина назначили секретарем парткома партшколы 2-й полевой армии и по совместительству зам. начальника ее политотдела. В начале марта 1950 г. армию перебазировали из Нанкина в Чунцин. Армейскую партшколу, где работал Лю Хуацин, переименовали в военно-политический университет Юго-Западного военного округа. Одна из задач, которую приходилось решать в это время Лю Хуацину, состояла в руководстве перевоспитанием более 900 тыс. гоминьдановских военнослужащих, сдавшихся НОАК (С. 238– 239, 246–247).
Как видим, на первом этапе своей военной службы Лю Хуацин был политработником. Он придерживался очень твердых идеологических убеждений, которые в концентрированной форме выражены в его выступлении на заседании Центрального Военного Совета ЦК КПК в ноябре 1989 г. Сердцевиной его взглядов было стремление обеспечить абсолютное и беспрекословное подчинение армии партийному руководству. Неудивительно, что Дэн Сяопин без колебаний доверил такому человеку командование войсками в сложнейший момент после событий 4 июня 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, когда, по мнению Дэна, главное было в том, чтобы обеспечить надежный контроль КПК над вооруженными силами (С. 576–578).
Будучи по-настоящему убежденным коммунистом, Лю Хуацин никогда не был зашоренным догматиком, пренебрегающим возможностью поучиться полезным вещам даже у наиболее «идеологически чуждых» партнеров. Это можно увидеть, например, из того, сколь объективно и уважительно он анализирует опыт боевых действий, накопленный британскими войсками во время фоклендского конфликта (С. 510–514) или же опыт проведения США операции «Буря в пустыне» (С. 608–614) 8.
Лю Хуацин с болью воспринял распад Советского Союза. Свое понимание причин этого события он изложил следующим образом.
Во-первых, ЦК КПСС отошел от марксизма–ленинизма.
Во-вторых, в партийных организациях наступил паралич.
В-третьих, очень тяжкими оказались негативные последствия от либерализации, департи-зации и деполитизации в войсках.
В-четвертых, разложился правящий слой (С. 604).
Он никогда не поднимал болезненную тему распада СССР в беседах с российскими представителями, всегда подчеркивал, что безусловно уважает исторический выбор нашего народа.
В феврале 1952 г. Лю получил уведомление от ЦК КПК, предписывающее ему немедленно прибыть в Пекин для беседы с командующим флотом Сяо Цзингуаном. Тот сообщил, что принято решение направить Лю Хуацина на должность зам. политкомиссара Даляньского военно-морского училища (С. 250–258). Так начался следующий, флотский этап его воинской карьеры.
Договоренность о советском содействии в создании и обеспечении функционирования данного училища была достигнута еще в августе 1949 г. Прибыв на место, новый начальник немедленно столкнулся с необходимостью выстраивать взаимодействие с советскими специалистами (С. 257–259). Этот опыт пригодился ему в последующей работе.
Прежде всего, Лю пришлось бороться с высокомерно-пренебрежительным отношением к советской науке и технике, с завышенными оценками собственных возможностей. Одновременно он переубеждал людей, стремившихся все заимствовать у Советского Союза без учета китайской специфики 9. Лю Хуацин параллельно занимался введением рациональной организации труда советских специалистов и разъяснял им невозможность всецело, без необходимой адаптации, переносить советский опыт на китайскую почву.
Еще более глубокое воздействие на профессиональное становление Лю Хуацина оказала его учеба в Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова в Ленинграде, куда он прибыл в конце августа 1954 г. Почти через четыре года, 15 февраля 1958 г. Лю Хуацин получил заработанный упорным трудом диплом с отличием. Теперь он стал действительно технически образованным офицером, овладевшим знаниями об основах функционирования не только военно-морских, но и других вооружений [Там же. С. 265–268]. В ноябре 1989 г. Дэн Сяопин прямо сказал Лю Хуацину, что он является единственным представителем китайского высшего военного командования, разбирающимся в вооружениях и военной технике и потому должен принять ответственность за руководство их модернизацией (С. 575).
Лю Хуацин начал изучать русский язык в 1954 г., когда ему было 38 лет. Давался он ему тяжело. Но благодаря его упорству, за время учебы в Ленинграде он достиг большого прогресса. В 1990-х гг., в отличие от многих других китайцев, учившихся ранее в Советском Союзе, Лю Хуацин не стремился продемонстрировать познания в языке, крайне редко произносил какую-нибудь фразу по-русски. Тем не менее со времен учебы Лю Хуацин сохранил теплые чувства к нашей стране и к ее народам. Во время переговоров приходилось неоднократно убеждаться в том, что он действительно понимает российский менталитет и психологию. Вместе с тем он очень редко ударялся в воспоминания о своей учебе в Ленинграде. Только однажды рассказал, как, возвращаясь на родину на поезде, заступился перед советскими пограничниками за китайца, ехавшего с ним в одном вагоне и пытавшегося провезти через границу закупленные на Алтае панты.
После возвращения из СССР, в марте 1958 г. Лю Хуацина назначили зам. командующего и нач. штаба Люйшуньской 10 военно-морской базы (С. 274). В июле 1960 г. он стал зам. командующего Северным флотом и командующим этой базы. С использованием советских образцов Лю Хуацин составил нормативные документы, регламентирующие несение службы на этом объекте.
В конце 1960 г. ЦК КПК принял решение о создании «исследовательских академий» военно-морской и авиационной техники. Приказ о создании «исследовательской академии военных судов», которую назвали Седьмой академией Министерства обороны, был издан ЦВС 7 июня 1961 г. (С. 283–284), а 14 августа 1961 г. премьер Чжоу Эньлай подписал приказ о назначении Лю Хуацина на должность ее начальника. Это ознаменовало еще один крутой поворот в его карьере – отныне он оказался неразрывно связан с разработкой и производством вооружения и военной техники. Именно с этого момента Лю Хуацин стал работать под руководством маршала Не Жунчжэня, занимавшего тогда должности зам. председателя ЦВС, вице-премьера Госсовета, председателя Госкомитетов по науке и по оборонной науке и технике (С. 285).
Первая задача, которую Лю Хуацину пришлось решать на новом посту, заключалась в налаживании нескольких проектов копирования советских военных судов (С. 294–297) 11. Это делалось на вполне законных основаниях, в соответствии с закрытым межправительственным соглашением от 4 февраля 1959 г., по которому Китаю передавались натурные образцы советских военных судов с вооружением и документация на них. Это было достаточно сложным делом, поскольку еще в 1960 г. из-за ухудшения двусторонних отношений советская сторона отозвала специалистов, прервала поставки комплектного оборудования и материалов.
При организации воспроизводства советского вооружения Лю Хуацин вновь столкнулся с необходимостью бороться с двумя тенденциями. Одна из них состояла в пренебрежительном отношении к копированию уже разработанной другими странами техники, в стремлении за- ниматься только самыми передовыми мировыми технологиями, а другая – в том, чтобы ограничиваться лишь повторением уже созданного другими, не предпринимая попыток продвинуться дальше на этой основе. Лю пришлось разработать целую систему взглядов, определяющих комплексный подход к копированию зарубежной военной техники. Это наложило отпечаток на его последующее отношение к ВТС сначала с Советским Союзом, а затем и с Россией, определило его особое внимание к налаживанию лицензионного производства как одной из важнейших форм взаимодействия с зарубежными партнерами.
К марту 1964 г. руководимая Лю Хуацином Седьмая академия выполнила задачу по копированию и налаживанию производства в Китае пяти типов советских боевых кораблей (С. 298).
В августе 1968 г., в разгар «культурной революции» Лю Хуацин назначен зам. председателя Комитета по оборонной науке, возглавляемого Не Жунчжэнем. Вскоре после этого Лю подвергся ожесточенной травле со стороны «хунвэйбинов» (С. 307–312).
В июне 1969 г. Госсовет КНР принял решение о передаче судостроительной промышленности в ведение ВМФ. Лю Хуацин стал руководителем «судостроительной канцелярии». В этом качестве он организовал налаживание производства целого ряда типов новых для китайской промышленности военных судов. Кроме того, в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Лю Хуацин занимался организацией боевых действий в районе о-вов Сиша в Южно-Китайском море, руководил программой оказания военной помощи КНДР, координировал содействие Вьетнаму в тралении американских мин и составил для начальства доклад с программой долгосрочного развития флота (С. 338–358).
В августе 1975 г. Не Жунчжэнь передал Лю согласованное с Дэн Сяопином предложение войти в «руководящую группу» по восстановлению деятельности Академии наук Китая. Это было частью общего курса Дэна, возвращенного к власти из опалы, по наведению порядка в стране, ввергнутой в смуту «культурной революцией» (С. 360–370).
В конце 1977 г. Лю Хуацина назначили начальником Генерального штаба НОАК. В этом качестве ему пришлось руководить тыловым обеспечением китайской армии, осуществлявшей «операцию возмездия» против Вьетнама. Тяжелые для китайской армии уроки этой кампании заставили его еще лучше понять, насколько остро вооруженные силы КНР нуждаются в серьезной модернизации (С. 394–396). За три дня до открытия XII съезда КПК, 28 августа 1982 г. Лю Хуацин назначен командующим флотом. На этой должности он, в частности, стал планировать создание китайского авианосца (С. 477–482).
В октябре 1987 г. Лю Хуацину исполнился 71 год, и он стал серьезно подумывать об уходе на покой. Его планы были нарушены вызовом на узкое совещание, происходившее дома у Дэн Сяопина. По его итогам Лю назначили заместителем ответственного секретаря ЦВС, в сферу обязанностей которого входило руководство процессом модернизации вооружения и военной техники НОАК (С. 574–575).
Наконец, в ноябре 1989 г. Лю Хуацин (опять по приказу Дэн Сяопина) назначен на высшую должность в своей карьере – зам. председателя ЦВС. При этом Дэн Сяопин заявил, что Лю пользуется его полным доверием (С. 575–576). В течение 1990-х гг. авторитет Лю по вопросам, связанным со столь деликатной и затратной сферой, как ВТС с зарубежными странами, был практически непререкаемым. Именно в таком статусе Лю Хуацину пришлось выступить в качестве человека, который сыграл решающую роль в формировании китайской стратегии в развитии военно-технического взаимодействия с Россией.
A BRIEF BIOGRAPHY OF COLONEL GENERAL LIU HUAPING (INTRODUCTION TO THE HISTORY OF THE MILITARY-TECHNICAL COOPERATION BETWEEN CHINA AND USSR/RUSSIAN FEDERATION FROM THE END OF 1990 –
THE BEGINNING OF 2000)