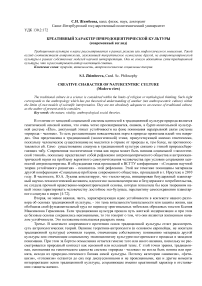Креативный характер природоцентрической культуры (современный взгляд)
Автор: Жимбеева С.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.
Бесплатный доступ
Традиционная культура в науке рассматривается в рамках религии или мифологического мышления. Такой взгляд соответствует антропологии, заложившей теоретическое осмысление другой, не антропоцентрической культуры в рамках собственных моделей научной интерпретации. Они не совсем адекватны сути традиционной культуры, что и рассматривает автор настоящей статьи.
Природа, витальность, антропологические социальные теории
Короткий адрес: https://sciup.org/142142342
IDR: 142142342 | УДК: 130.2:172
Текст научной статьи Креативный характер природоцентрической культуры (современный взгляд)
В отличие от западной социальной системы ценностей в традиционной культуре природа является генетической основой жизни, что очень четко просматривается, скажем, в бурят-монгольской культурной системе «Ёhо», диктующей этикет устойчивости на фоне понимания неразрывной связи системы «природа - человек». То есть регламентация поведенческих норм в природе пронизана идеей «не навреди». Она представлена в традиционной (экологической) этике, присутствующей именно генетически, поскольку человеческое существование не мыслится в отрыве от природы и, тем более, не противопоставляется ей. Само существование социума в традиционной культуре связано с этикой природосберегающих табу. Современная экологическая этика как наука может быть названа социальной «экологической этикой», поскольку представляет собой рефлексию антропоцентрического общества и антропоцентрической науки на проблему вероятного самоуничтожения человечества при условии сохранении ценностей антропоцентризма. И обсуждаемая тема прошедшей в ВСГТУ конференции - «Создание научной теории устойчивого развития» - показатель этой рефлексии. Этой же тематике посвящены материалы другой конференции «Социальные проблемы современного общества», прошедшей в г. Иркутске в 2010 году. В частности, Ю.А. Лукина констатирует, что «техно-наука, инициировав безудержный планетарный научно-технологический активизм, идеологию экономоцентризма и безудержного потребительства, не создала прочной нравственно-мировоззренческой основы, которая позволила бы всем творениям нашей эпохи гарантировать человечеству достойное эко-будущее, перспективу самосохранения планетарного социума в мире» [4:72].
Вторая, не менее важная, часть, характеризующая идею устойчивости в контексте нашего разговора об основах традиционной культуры, - это тема витальности/танатальности или защиты жизни, как обобщила свой фундаментальный труд по переводу оригинальных тибетских обрядовых текстов Ксения Максимовна Герасимова. Если традиционная культура прошла путь жесткой модернизации и при этом ее базовые основы сохранились неизменными, то это говорит о том, что они являются жизненным началом устойчивости. Это положение попытаемся раскрыть ниже.
Третье. В контексте современного прочтения основ традиционной культуры стоит рассмотреть суть антропологических теорий. Великие теоретики-антропологи (в основном европейцы, не носители традиционной культуры) сочинили теории, отвечающие собственному пониманию материала другой культуры или отвечающие социальному эволюционизму культурно-исторического процесса в западном понимании. При этом за бортом осмысления остается генезис того или иного явления, поскольку не рассматривается природный контекст как основной или исходный тезис. С этой точки зрения, традиционная, основанная на генетическом единстве система «природа - человек» не могла быть понята или принята, исходя из природно-этического багажа самой культуры. Поэтому категории «анимизм», «фетишизм», «тотемизм» остаются до сих пор дискуссионными и не проясненными, как и другие моменты интерпретации основ традиционной культуры, сохраняющие именно креативный характер в отстаивании «защиты жизни».
Мы попытались обрисовать возможные пути исследования в контексте «диалектики глобализации и регионализации». Эта тема появилась как следствие заданного изначально фаустовским духом однополярного взгляда на мир, который, в сущности, и навязал проблему глобализации, из которой с необходимостью вытекает и тема регионализации.
Теперь коротко по всем трем условно заданным частям нашего разговора о традиционной культу -ре. Традиционную культуру мы понимаем как культуру, где культуроопределяющим фоном является природа как генетическое начало и жизненный источник устойчивости. Только в этом контексте объяснимы многочисленные обряды «жизненного цикла», которые известны каждому буряту. Обряды «жизненного цикла» отвечают вопросу сохранения и продолжения рода и должны рассматриваться не только в социальном ключе, как принято интерпретировать в научных исследованиях. Они несут природногенетический подтекст, поэтому сохраняют свою актуальность при всякой социальной модернизации. В том числе долгой социально-теоретической модернизации, получившей новый импульс актуализации еще в просвещенческий период Европы. Это была линия прочтения, актуализировавшая древнегреческое наследие. Линия обновления в новых условиях идеи «фаустовской души», истоки которой лежат глубоко - в идее «богоподобного человека и богоборчества, в вызове богам и природе греко-римского мира» [3:7].
В таком контексте очень коротко остановимся на двух знаменитых работах XVIII века: Гельвеция «Истинный смысл системы природы» и Морелли «Кодекс природы или истинный дух ее законов». Почему мы взяли эти два примера? В заглавии их ведущим рефреном звучит слово «природа». Между тем текст отвечает обоснованию первенства разума и социального переустройства общественной жизни, чем и была озабочена просветительская мысль XVIII века, где тема борьбы получает законченное выражение, явившись теоретическим прологом будущих социальных революций. И декларируется истинность (вынесена в заглавие обоих авторов) предлагаемых ими положений. То есть они продолжили идеи античности, выдвинув на первый план разум как главный аргумент применительно к социальному переустройству. Гельвеций писал: «Разум - это природа, видоизмененная опытом» [1:67]. То есть то, что, как следствие всех видоизменений, мы имеем сегодня, - это известные результаты научно-технической революции и экологический кризис. Экологический кризис - это следствие сугубо антропологического видения мира, когда антропологическое мышление замыкается на внеприродной основе существования. Теоретически оно закреплено транслируемой сегодня в культурологии идеей, развитой еще идеологами Баденской школы, в частности Генрихом Риккертом. В начале прошлого века выходит его работа «Границы естественно-научного образования понятий. Логическое введение в исторические науки». В русском переводе она известна как «Науки о природе и науки о культуре», где разграничиваются сферы природы и сферы культуры. Под первой понимался мир, существующий вне желаний, воли, деятельности человека, тогда как культура существует только благодаря человеку. Важно отметить, что «психологическое бытие» в антропологии также разведено и не взаимопересекается с «материальным бытием». Отсюда, как мы понимаем, происходит и различие в понимании природы. Природа не воспринимается как жизненное начало человеческого существования. И не рефлексируется взаимообусловленность контекста «природа - человек». Природа изучается в рамках естествознания, где не просматривается генетическая взаимосвязь системы «природа - человек». Поэтому, «вопреки ожиданиям идеологов Просвещения, научно-технический прогресс превратил человека не во Властелина мира, а в своеобразного «маргинала Вселенной», трагически выпавшего из космической гармонии. «По иронии судьбы, - пишет Ю.А. Лукина, - трехвековая практика осуществления Проекта Просвещения, превратившая человечество в субъект безудержного планетарного научно-технологического активизма, сделала человека его заложником» [4:75].
В упомянутых нами двух работах сквозит активная пропаганда идей социального переустройства. Например, у Морелли природа расположила людей к единодушию: «Она заставляет людей, на основании одинаковости их чувств и потребностей, понять равенство их состояний и прав и необходимость общего труда» [5:75-76], т.е. социальное равенство выдвигается как разумный закон природы1. Если нет этого равенства, то необходимо обучить народ, как его достичь [там же].
Гельвеций: «Мы называем разумностью способность действовать согласно намерению, которое мы признаем в существе, каковому мы это намерение приписываем. Мы отказываем в разумности существам, которые не действуют так, как мы (выделено нами. - С.Ж.). Разумное существо это -существо мыслящее, желающее, действующее, чтобы достигнуть цели» [1:57-58]. То есть активистские начала предполагают действие и достижение цели. При этом воспитание мысли преследует социальные устремления. Вопрос о том, какова природа самих мыслей и чем чреваты их последствия - ими не обсуждается. Гельвеций приходит к убеждению, что различие в человеческих воззрениях, идеях и умст- венных способностях обусловливается исключительно влиянием внешней среды, в его понимании - общественной обстановки. Общественная же среда создается формой правления и политическими учреждениями. Революционный вывод из этого учения напрашивался сам собой. Если общественные учреждения создают человека, то, для того чтобы получить здоровое общество и «совершенного» человека, необходимо изменить политические учреждения данной страны. Это, в сущности, означало призыв к революции.
Просветители XVIII века, развивая античную тему разума, считали его равнозначным природе. Отсюда и появилось в заглавии их работ (Дидро «Мысли об истолковании природы», Ламетри «Естественная история души») это слово. Разумность как «доминанта Ума (Нуса) определила и характер последующей европейской философии, и человек разумный ощутил себя хозяином положения» [3:44]. Сегодня «глобальный социальный контекст - многомерный антропогенный универсум <...> напоминает собой весьма активную, крайне сложную темпоральную нелинейную среду, эволюционирующую вдали от состояния равновесия». Наблюдается «усиление неустойчивости глобального социального контекста» [4:73]. Тем самым социальные идеи, явившись краеугольным камнем в идеологии всех последующих времен, коснулись нас самым непосредственным образом не только революционными переворотами.
Например, борьба с «пережитками» в середине 60-х годов прошлого века была идеологическим клише, когда для утверждения в советском обществе новых форм культурной адаптации требовали искоренения «пережитков». К «пережиткам» относились те самые «обряды жизненного цикла», которые требовалось искоренить. В Улан-Удэ проходили конференции под названием «Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири» и выпускались сборники с тезисами докладов научно-практических конференций в 1966,1969 и 1986 годах. А к «пережиткам» относились те самые обряды жизненного цикла, которые, как теперь понятно, не могут быть подведены к изменяющимся в контексте времени тем или иным социальным теориям. Тайлоровские «пережитки» пережили самые суровые времена, скажем, от XVIII до XXI века. О чем это говорит? О том, что теоретическое наследие, обоснование которого основано на социальной детерминации, не является аксиомой и требует обновления. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона, которую мы обозначили, это вопрос современного прочтения антропологических теорий . В частности, их дискуссионность. Об этом более подробно в статье «Проблема теоретического осмысления основ традиционной культуры». Здесь же (жесткие рамки формата публикации не позволяют) мы хотели бы отметить, что антропологические теории не улавливают суть взаимосвязи контекста «природа - человек». Что подтверждает обширная этноисторическая литература о народах Земли, где устойчиво сквозит антропологический эволюционизм. Он отказывает другим народам, кроме европейцев, в цивилизованности. При этом исследовательские параметры культуры неевропейских народов замораживаются на теме «дикости», «первобытности», теоретически представляя «дологическое», «мифологическое мышление». Эти теоретические тезисы все еще транслируются во всех современных исследовательских работах, касающихся традиционной культуры. Кроме того, интерпретация взаимосвязи системы «природа - человек» идет в рамках социального детерминизма и, естественно, в силу заданности интерпретации, не адекватна сущности самих явлений. Сохраняется до сих пор как теоретическое объяснение понятия «фантастическое». При этом речь идет о том, что анимизм, тотемизм, фетишизм имеют в своей основе факт некой силы, которую антропологи интерпретировали как веру в «сверхъестественное».
Обратимся к современному словарю. Сверхъестественное - это «категория, обозначающая реальность, воспринимаемую сознанием как принципиально отличную от обычной действительности и в пределах «посюстороннего» каузального понимания необъяснимую. Онтологически сверхъестественное -запредельное обыденной действительности, сверхприродное и сверхэмпирическое; гносеологически -непознанное и требующее специальных форм познания; феноменологически - необыкновенное, таинственное; психологически - опыт аффекта; аксиологически - ценность высокого порядка» [7:443]. Теперь попробуем прокомментировать. Абсолютно очевидно, что термин этот имеет антроцентрические теистические корни. И связан с постижением трансцендентального Духа. В таком ракурсе объяснения все в порядке с понятием, т.е. в таком контексте познания оно применимо. Но этот же термин при объяснении явлений в рамках традиционной культуры, вернее, невозможности объяснения, требует пояснения. Понятие «сверхъестественное» возникает из непонимания генезиса тех сил, кои антропологическое мыш-мышление относит к сверхъестественному. В данном случае мы имеем в виду те самые «определенные предметы, силы и существа», поскольку «это представление, привлекая такие приемы мышления, как уподобление, персонификация, антропоморфизирование и др., выражает себя в конкретных образах “духов”, “демонов”, “богов” и выступает тем самым одним из источников древней мифологии» [7:444]. То есть речь идет о сознании, как справедливо замечается в начале статьи. Поскольку в европейской мысли проблема генезиса сознания все еще остается проблемой или решается в антропоцентрической парадигме,2 то и требует «специальных форм познания».
С точки зрения традиционной культуры вопрос решается довольно просто. Ниже мы остановимся на этом. Кстати, полагаем, что исследователь А.Е. Капишин3 не совсем прав в том, что труд Л. Леви-Брюля не заслуживает внимания. А.Е. Капишин актуализирует тему природы сознания при рассмотрении философских оснований концепций мифологического мышления. Он задает вопросы: «Какова природа сознания?», «Существуют ли универсальные законы мышления и языка?», «Прозрачен ли внешний мир для сознания?». Ссылаясь на Дж. Дж. Фрезера и Л. Леви-Брюля, которые основывали свои концепции на «метафизических» воззрениях на природу сознания, А.Е. Капишин акцентирует свое внимание на универсальности норм мышления и языка. При этом он приходит к выводу, что «рационалистическая философская доктрина на данный момент так и не реализовала себя в сфере научного знания о “мифологическом сознании”» (с.4). С чем мы полностью согласны.
На наш взгляд, Люсьен Леви-Брюль (1857-1939), автор труда «Сверхъестественное и природа в первобытном мышлении (Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive)» (М.: ОГИЗ, 1937. 517 с.), более всех других исследователей был близок к пониманию истоков «архаического». Вероятно, понятие «архаическое» есть всего лишь принцип объяснения в рамках эволюционной теории, разделяющей народы на «цивилизованные» и народы, остающиеся на «докультурных» формах развития. Идеи Л. Леви-Брюля вылились в закон партиципации или сопричастия.
Традиционная культура известна высокой степенью практичности. О чем, кстати, и говорит Далай-лама XIV в предисловии к изданию «Тибетской книги мертвых» (в переводе на английский Р. Турмана и на русский О. Альбедиля). Естественно, о сверхъестественном, или фантастическом, и речи нет. (Вероятно, и бурят-монгольско-тибетскую «Гэсэриаду» в какой-то степени стоит рассматривать не с точки зрения мифологического мышления, поскольку эта теория антропологическая, а скорее, с точки зрения изложения парциальных явлений.) В таком ракурсе пока нет исследований, все привыкли идти по накатанной дорожке мифологического мышления, хотя стоит, наконец, разобраться с самим антропологическим понятием «мифологическое мышление».
Также следует сказать и об антропологических категориях «анимизм», «тотемизм», «фетишизм». Как интерпретируется анимизм? Естественно, в рамках антропоцентрической логики. Известный этнограф Л. Я. Штернберг дает следующее: «Идя от единственного хорошо ему известного (его «я») к неизвестному, он [человек] естественно должен был сознательно и безсознательно переносить на все окружающее атрибуты своей собственной природы: одушевленность, разумность, волю, активность, словом – мыслить природу по образу и подобию своему » [6:858] (Выделено нами. – С.Ж. ) И далее: «Одушевив природу, человек пошел еще дальше: он очеловечил, антропоморфировал ее» [там же]. Как видим, здесь чисто антропоцентрическое (христианское в своей основе) объяснение.4 Это объяснение принято в науке и не подвергается сомнению, хотя носители традиционной культуры вряд ли знали это учение до колонизации их территорий. Как известно, монотеизм никогда не являлся характерным признаком традиционной культуры. Как отмечал в свое время шотландский философ Д. Юм, политеизм и отличается от «естественной религии», коим является христианство. Таким образом, антропологические теории основаны на другой ментальности и отвечают антропоцентрическому теистическому типу мышления,5 которое природу относит к созданному Богом творению, находящемуся под его опекой.
Мы склонны видеть, что антропологическая методология интерпретации не совсем подходит при исследовании основ традиционной (природоцентрической) культуры. Второе. Обязательно в комментариях к названным трем категориям (анимизм, фетишизм, тотемизм) транслируется понятийное клише: «фантастическое отражение в головах людей сил природы», когда на самом деле нет никакой фантастики.
Речь идет о сознании и его парциальных возможностях. Для пояснения наших рассуждений требуется по контексту изложения остановиться на понятии «религия». Это понятие охватывает внешнюю сторону явления, скажем, при интерпретации традиционной культуры, поскольку понятийно в рамках антропоцентрического мышления не отражает генезис традиционной (природоцентрической) культуры. Это понятие отражает «особый тип отношения (выделено нами. – С.Ж.) человека к миру и самому себе, обусловленный представлениями об инобытии как доминирующей по отношению к обыденному существованию реальности», - читаем в «Энциклопедии религий» [9:1069]. Понятие «религия» - понятие социально-антропологическое. И оно также виртуально по отношению к традиционной культуре. Это латинское слово является основным термином для обозначения коммуникации между человеком и сверхчеловеческим миром, поясняют религиоведы. Если первоначально оно означало "обряд", "соблюдение культовых предписаний" и тщательное исполнение религиозных обрядов, то впоследствии стало обозначать единство, совокупность верований и культовой практики.6 Коль скоро термин «религия» поня-тийно относится к образу жизни, к сумме обычаев и правил, определяющих этот образ жизни, то, как мы понимаем, он в традиционной культуре диктуется, прежде всего, отношением к жизненным началам, природе. Тогда-то и появляются на горизонте «прострации перед таинственными, невидимыми силами» [8:72, глава «Магия и религия»]. Здесь же Фрезер размышляет: «Признание человеком того, что он бессилен оказать существенное влияние на ход природных процессов, пришло, должно быть, постепенно: он не мог сразу, одним махом отказаться от своего воображаемого господства», как того требует мировоззренческая матрица. Полагаем, «воображаемое господство» связано с христианской доктринальной системой и речи нет об отказе, о котором размышляет Фрезер. Но он предугадывает тот кризис, который вывел мир к проблеме выживания: «Шаг за шагом освобождался человек от своей гордыни, пядь за пядью со вздохом сожаления сдавал свои позиции». Автор «Золотой ветви» здесь верно предвосхитил то состояние, которое переживает человечество в связи с утратой понимания природы.
Итак, что является источником особого внимания в традиционной культуре? И почему антропологические теории остаются в зоне дискуссионности? Полагаем, что антропологический методологический подход не улавливает сути взаимосвязи контекста «природа - человек», поскольку не просматривается понятийно генетическое единство системы или контекста значения природы в мировоззрении антропоцентризма. Это единство очень хорошо теоретически и практически проработано в буддизме и показано, в частности, тибетской медицинской литературой, например, «Вайдурья-онбо» [2.53]. Мы находим необходимым обязательно обращаться к работам К.М. Герасимовой, поскольку именно этот исследователь, работавший над тибетскими обрядовыми текстами с профессиональным ламой, смог адекватно интерпретировать изучаемый текст. Тело и душа человека имеют совокупную первоэлементную природу: «Каждый элемент создает тот или иной компонент “тела”, соответствующий орган чувств и объект сенсорного восприятия. Элемент “земля” создает, во-первых, телесную плоть и кости, во-вторых, орган чувств - нос, в-третьих, объект обоняния - запах; элемент “вода” создает кровь, язык и шесть видов вкусовых ощущений» и т.д. [2:53-54]. К.М. Герасимова подробно останавливается на том, какой из первоэлементов природы соответствует какому из органов тела человека7.
Работа Герасимовой с Лодой Жамсо Ямпиловым позволила всесторонне рассмотреть вопрос ви-тальности/танатальности в контексте исполнения обрядовых текстов, что присутствует сегодня в практическом буддизме в наших дацанах и также исполняется и шаманами, например, в обрядах внедрения или призывания души человека при ее потере. А что такое душа? Исследователями традиционной культуры она квалифицируется как жизненная сила или жизненное начало. И эта жизненная сила, как мы понимаем, почти равнозначна понятию «сознание». Слово «почти» здесь выражает незаконченность осмысления этого вопроса. Герасимова отождествляет «луд сознания» и «луд души» на фоне переводов текстов Туган Дхарма Ваджра Лобсан Чойджи Нимы [2:52-53] («Луд» - обрядовый термин «выкупа жизни» соответствует понятию «живое»). При этом очевидно, что буддизм, досконально разработавший эту тему, во главу угла ставит вопрос сознательного обуздания и контроля течения собственного сознания, что дает, как мы понимаем, возможность искоренения, в том числе и парциальности.
Труды К.М. Герасимовой показывают, что сознание, совокупное целое природного жизненного начала (как hYлдэ/сYлдэ, получению и сохранению которого посвящены родильные, свадебные и похоронные обряды, скажем, у бурят, как и у других народов) и сенсорных свойств живого, составляет ту силу, которая имеет «сверхъестественное» объяснение в науке, поскольку сознание в последней трактуется как совокупность психических процессов человека. Антропологическая теория осмысливает сознание вне природного окружения. Это понимание фиксирует синтез психического состояния опыта восприятия, который рассматривается как гносеологическая категория. Здесь природа как генетическая основа жизни не просматривается. Этнографический материал по народам Земли, где эти народы заняты сохранением жизненности жизненных сил, рассматривается как религиозное поклонение «сверхъестественному».
Мы начали разговор с просветителей XVIII в. Морелли и Гельвеция. В заглавие их работ вынесено слово «природа», но речь идет о социальных отношениях и примате разума. В гл. XVI у Гельвеция читаем: «Опыт нас учит, что религиозные учения были действительным источником бедствий человеческого рода. Незнание естественных причин создало ему богов. Это представление помешало прогрессу разума» [1:92-93] (выделено нами. - С.Ж.). То есть идеолог просвещения занят проблемой своего времени: выйти из тисков теологии и обосновать социальное переустройство общества на принципах новой морали. Как известно, отличительной особенностью практического развития, возведенного в ранг единственного теоретического авторитета понятия «разум», стал критический порог научнотехнического и технологического давления на природу. Сегодня стала общей та истина, что проблема экологического кризиса имеет под собой мировоззренческую основу иного понимания природы, не адекватного ей самой. Природа, вернее, наука о природе - естествознание, изучает природу в рамках заданных человеком критериев, не адекватных, естественно, самой природе, ибо наука (как эксперименталь- ная область познания) не может уловить мгновенность и текучесть естественного (природы) в каждый миг преломления.
Таким образом, вопрос о понимании природы в европейской культурной традиции и о природе сознания в традиционной культуре остается в науке открытым. Вернее, вопрос генезиса и преломления природы сознания .
Второе. В контексте экологических проблем, как заметила в свое время известный востоковед Т.П. Григорьева, «сегодня стоит необходимость ориентированности на ритм самой природы, а не на свое представление о ней» [3:49].
Таким образом, креативность традиционной культуры можно рассматривать как «новый взгляд» на фоне однолинейного клише через лупу «примитивности». При этом известно, что вопрос души и сознания все еще обсуждается в науке как самый сложный вопрос европейской философии.
Об этом, в частности, говорит давний спор о «берклианстве», где пастор Клойнский промысливал «знание идей и знание духов ».