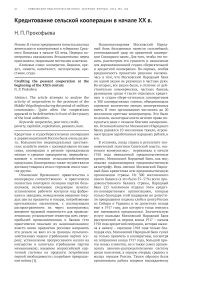Кредитование сельской кооперации в начале ХХ в
Автор: Прокофьева Наталия Петровна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (16), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка анализа деятельности кооперативов в губерниях Среднего Поволжья в начале ХХ века. Нередко кооперативы оказывались беззащитными перед произволом, творимыми местными властями.
Кооператив, бедняки, кредит, нищета, капиталист, эксплуатация, крестьяне, ссуда
Короткий адрес: https://sciup.org/14219666
IDR: 14219666
Текст научной статьи Кредитование сельской кооперации в начале ХХ в
Кредитная и ссудосберегательная кооперация в дореволюционной России была очень развита. Большинство индивидуальных крестьянских хозяйств имели с кооперативами тесные связи, кооперации в регионе принадлежали мелкие и средние предприятия, перерабатывающие в основном сельскохозяйственную продукцию. Кооперативы также осуществляли доставку товаров в села и торговлю ими и многое другое.
Отношение Временного правительства к кооперации соответствовало и практически полностью повторяло позицию партии большевиков, включавшее следующие пункты: установление рабочего контроля над фабриками и заводами; немедленное введение твердых цен на предметы и товары, потребляемые крестьянским населением, с последующим распространением их через кооперативы; введение трудовой повинности для промышленников; установление секвестра всех сверхприбылей промышленников и банков (что практически означало их национализацию); вместо ввоза предметов роскоши направить эти деньги на ввоз из-за границы сельскохозяйственных машин (требование партии эсеров); установление прогрессивного налога на имущество и капиталы (требование партии меньшевиков); введение всероссийской карточной системы на продукты потребления первой необходимости; скорейшее прекращение войны [1].
Национализировав Московский Народный банк большевики нанесли сильнейший, уничтожающий удар по кредитной кооперации Совнарком нанес, Для того, чтобы это понять, рассмотрим его сущность и назначение для дореволюционной ссудно-сберегательной и кредитной кооперации. Во-первых, особая вредоносность принятого решения заключалась в том, что Московский Народный банк ни одной акции не размешал в частные руки. Во-вторых, все акции были, в отличие от действительно коммерческих, частных банков, размещены среди 4 тысяч отдельных кредитных и ссудно-сберегательных кооперативов и 300 кооперативных союзов, обьединяющих огромное количество мелких кооперативных ячеек. В этих организациях числилось до 20 миллионов крестьян-кооператоров. Это были их деньги, на которые никто не имел право покушаться даже с самыми благими намерениями. Основной капитал Московского Народного банка равнялся 10 миллионам тяжело, огромным трудом заработанных народных рублей, и его.
В условиях, когда страна в результате экономической политики Советской власти, «военного коммунизма», переживала в начале 1918 года невиданный продовольственные кризис, Московский Народный банк, как мог, отдалял надвигающуюся продовольственную катастрофу. Ведь именно Московский Народный банк кредитовал всю продовольственную организацию страны. Из 300 миллионного своего баланса (а это было 55–57%) всего продовольственного баланса страны, Народный банк 225 миллионов отдавал этим кредитно-кооперативным организациям, которые только благодаря этой поддержке не допустили прекращения подвоза хлеба в центр России из Сибири и Украины и не допустили голода еще в 1917 году, для которого тогда имелись все имеющиеся предпосылки. Значительную услугу оказывал Московский Народный Банк расстроенной за период конца 1917 – начала 1918 года кредитной операции, которая выжила к началу – середине 1918 года только благодаря ему. Московский Народный банк сумел не только привлечь в кооперативы, несмотря на потрясения конца 1917 года, большой приток новых клиентов, но и также сумел организовать лавочно-распределительную систему среди населения, в первую очередь средних и малых городов России. Таким образом была организована работа вопреки насаждаемому из Москвы большевиками в ноябре–декабре 1917 года – начале 1918 года экономическому хаосу, что не было того бесцельного стояния в хвостах и очередях, которое наблюдалось весной 1918 года везде и всюду [2].
Главные негативные последствия ликвидации большевиками Московского Народного банка были плачевными: во-первых, только через Московский Народный банк производилась операция по заготовке семенного овса для всей северной половины России, в общем количестве 720000.пудов. Когда летом-осенью 1918 года началась уборка овса, и в декабре 1918 года было необходимо вывезти из производящих губерний 2500000 пудов этого хлеба, ликвидация Московского Народного банка привела к тому, что собранный овес был расхищен, преступно реквизирован на «нужды гражданской войны» и не попал для обсеменения по назначению. Вот где были заложены предпосылки голода 1921 года.
Точно также за неимением средств, ссудосберегательными и кредитными кооперативами приостановились всякие покупки семян ячменя, ржи и других злаков (необходимость которых для хлебопроизводящих губерний составляла 500-800 тыс. пуд.). Рухнул весь план снабжения населения минеральными удобрениями, средствами борьбы с вредителями и болезнями сельского хозяйства, так как они закупались на 95% при посредничестве Московского Народного банка за границей на суммы до 15 миллионов рублей. Последствия этой диверсии были ликвидированы только к 1925 году (прим. автора).
Кооперативные организации для ремонта сельскохозяйственных машин и для строительства не работали, была полностью прекращена покупка листового и строевого железа, и это случилось тогда, когда деревня «сидела без единого гвоздя». Прекратились поставки в сельское хозяйство уборочных машин (жаток, косилок, молотилок) и шпагата – всего того, что закупалось при посредничестве Московского Народного банка в Америке. Приведем следующий пример, в октябре 1917 года в США при посредничестве Московского Народного банка было закуплено 50 тысяч жаток, а деньги, в результате ликвидации банка, остались не перечисленными, то есть изъятыми на другие, «более необходимые нужды». В результате так необходимые сельскому хозяйству жатки в Россию так и не попали. Совершенно приостановились операции по экспорту, настолько необходимого для восстановления существующего расчетного баланса. В наступление момента сдачи льна кооперативами и союзами России, разгром Банка разрушил эту операцию, а следовательно, главнейший источник получения золота из границы. Были полностью приостановлены операции союзов смолокуренных и лесорубочных артелей, возникших при непосредственном участии банка. Срыв поставок леса за границу привел к тому, что сгнили 500 тысяч кубометров леса, доставленных в Архангельск и предназначенного к поставкам за рубеж. Был уничтожен важнейший источник поступления золота для России. Иначе, как экономической войной против собственного народа, действия большевиков было трудно квалифицировать [3].
В журнале «Союз потребителей» лидеры российского кооперативного движения резко негативно отреагировали на национализацию Народного банка, особо указав на то, что «… потребительские общества, кустарные артели, сельскохозяйственные ссудо-сберегательные товарищества, отдельные крестьянские товарищества лишились необходимого им разумного кредита». По их мнению, «Оторвать Народный банк от кооперации – это значит разорвать живое тело на части» [4].
На схожей позиции находятся и современные исследователи кооперативного движения в период «военного коммунизма». Так, оценивая пагубные последствия ликвидации большевиками Народного банка, Н. Н. Зеленская считает, что «…тяжелейшим ударом по деятельности кооперации была национализация Московского Народного Кооперативного Банка – финансового центра потребительской кооперации (декабрь 1918 г.), вклады счета которого к моменту национализации достигали 700 млн. золотых рублей» [5].
Кредитные кооперативы в своей работе, чтобы как-то выжить, в качестве денег стали использоваться наиболее дефицитные товары (соль, спички, керосин, ситец, хлеб, махорка и т. д.). Подобные явления наблюдается и в Казанской и Самарской губерниях. Хотя власти и пытались перевести все расчеты, проводимые кредитными кооперативами, в безналичную форму, проводить взаимопогашение задолженностей, производить все расчёты только через финансовый отдел ВСНХ, – эти полумеры эффекта не дали, и финансовый кризис не был преодолен, деятельность кредитной кооперации практически была остановлена [6].
Так, 26 октября 1917 года, на другой день после совершения Октябрьского переворота, в Симбирске солдатами местного гарнизона, подстрекаемыми темными преступными личностями, был учинен повальный разгром магазинов, учреждений и частных квартир, от разгрома не уцелело и помещение и склад Симбирского союза кредитных и ссудосберегательных товариществ: мебель и вся обстановка уничтожены совершенно, имеющиеся на при магазинных складах товары, книги, имеющиеся в помещении Союза, растащены и найдены впоследствии, в разгромленных магазинах, а некоторые даже за пределами города в растрепанном состоянии. Несгораемый шкаф на следующий день был при вскрытии сильно помят, имеющаяся наличность расхищена, пишущие машинки похищены [7]. При этом в разграблении кооперативной собственности приняли участие и созданные неизвестно кем и когда вооруженные отряды [8].
Центральная власть большевиков насаждала на местах бесправие и беспредел, прямо отразившийся на положении местной кредитной кооперации. Вопиющий случай произошел на станции Баландо Саратовской губернии. В ноябре 1917 года прибывшей на станцию группой большевиков в сопровождении отряда красногвардейцев был тихо, келейно создан новый Совет, при отсутствии всякого голосования, куда вошли сами вновь прибывшие и несколько крестьян, поддавшихся на их уговоры. На другой день он начал «действовать». Его действия выразились в том, что вооруженные красногвардейцы опечатали лавки двух кредитных кооперативных товариществ, объявив все, что в них находится и сами помещения «реквизированными в пользу трудового народа». Немедленно собралось объединенное правление, на собрание которого явились практически все жители станции и окрестных сел. Толпа потребовала снять печати с лавок и восстановить их нормальную работу. Положение сложилось угрожающее, поэтому сельсоветчики быстро сняли печати и ретировались. Однако на другой день, получив подкрепление из города, они развернули массированную агитацию против «прокулацкого Правления». Его дни были сочтены [9].
Кооперативы пытались наладить связи с соседними регионами, чтобы обеспечить население Симбирской губернии хлебом. Так население Бобровской волости, путем самообложения, добровольно собрали до 56000 рублей для покупки хлеба в Уфимской губернии, однако закупить его им не удалось, так как закупленный хлеб конфисковали заградительные отряды, выставленные большевиками. В результате крестьяне, члены кредитного товарищества, остались без хлеба и денег.
Заготовка хлеба зависела от руководства контроля новой власти «военного коммунизма». Так на просьбу членов правления кредитных товариществ, обращенные в местные продовольственные управы: определить какое количество необходимо заготовить, кооператоры не получили вразумительного ответа. Они также не получили разрешение на проведение хлебозаготовительных операций. Союзом Самарских кредитных обществ в целях проведения еще одной попытки договориться с властями о проведении хлебозаготовок были избраны уполномоченными члены правления Союза А. И. Верень и М. С. Самарцев. Труд и расходы означенных уполномоченных оплатило Правление. Расходы Союза по закупке хлеба так и не были возвращены властями, поэтому были проведены по другим статьям. Операции по закупке для населения сельскохозяйственных машин и орудий, в виду неопределенности положения рынка, были полностью прекращены [10].
Практически до лета 1918 года большинство из крепких кредитных и ссудосберегательных кооперативов в регионе сохранились, однако они до минимума свели свою деятельность до «наступления лучших времен». На оставшиеся наличные деньги, которые не «сгорели» в банках были закуплены и складированы товары, наличность была спрятана либо роздана пайщикам, инвентарь, имеющийся на складах, который не подвергся разграблению был роздан по дворам. Правления периодически собирались для того, чтобы оказать помощь членам товарищества в случае чрезвычайных обстоятельств за счет товарищеских средств [11].
Симбирский Союз Кредитных товариществ подвергся разгрому пришедшими к власти большевиками одновременно с другими кредитными учреждениями: банками, обществами взаимного кредита, государственными сберегательными кассами [12]. Однако нельзя однозначно заявить о том, что вся кредитная кооперация отвергла большевистскую политику. Большевики, понимая всю важность кооперативного движения, как крестьянского, предприняли все усилия для того, чтобы привлечь на свою сторону верхушку кредитно-кооперативного движения. И, в значительной мере, в начале 1918 года им это удалось. 20 февраля 1918 года, состоялось заседание Кинель-Чер-касского районного съезда Советов, в котором принимали участие делегаты, избранные Бугурусланским и Бузулукским уездами. Он состоялся исключительно и во многом благодаря поддержке руководства Кинель-Черкасского Союза кредитных обществ, которое, в основном, прочно встало на большевистские позиции. Съезд в целом, а также правление Союза, практически полностью присутствовавшее на съезде, поддержали упразднении частных торговых предприятий и введении в каждом селе и деревни общественных кооперативных лавок. Было постановлено упразднить все частные торговые предприятия, как мелкие, так и крупные. В чем же тут дело? А все дело в том, что кооперативные лидеры руками большевиков попытались устранить своего злейшего конкурента – частную торговлю, о чем свидетельствовали дальнейшие события. После этого съезда в Бугурусланском и Бузулукском уездах все товары, принадлежащие мелким коммерсантам, отбирались в порядке рекви- зиции, если этот товар не превышал сумму в 1000 рублей; если стоимость товара превышала 1000 рублей, то товар уже отбирался в порядке конфискации с рассмотрением на общих собраниях местных Советов, что, в принципе, было одно и то же [13]. Было решено также «немедленно и в спешном порядке» произвести реорганизацию кредитных товариществ, и все дела таковых вместе с капиталом передать Комиссарам Финансов при Советах. По мнению устроителей съезда, ссуда должна была выдаваться «только остро-нуждающимся и каждый раз с разрешением Советов». «Крупные вклады должны быть конфискованы, а мелкие обеспечены» [14].
Зимой-весной 1918 года многие кредитно-финансовые и ссудосберегательные кооперативы подверглись повторным повальным экспроприациям, уже проводимыми властями, которые оправдывали их «сложной общественно-экономической ситуацией». На складах оставшихся еще после погрома 1917 – начала 1918 года наиболее эффективно работающих до революции товариществ прошли массовые обыски, и было отнято различного спрятанного товара на миллионы довоенных рублей. Ходили по домам бывших членов правлений товариществ и рядовых членов и даже там экспроприировали все понравившееся имущество, имевшее «добротный» вид. Однако продать его и выручить деньги руководители губернии не в состоянии, так как железнодорожный транспорт не работал, а местное население купить товар не в состоянии [15].
Отмечено очень много фактов произвола со стороны государственных органов, верховодящих на селе. В Казанской губернии имели место факты активного вмешательства в дела кооперативов со стороны комбедов, когда те по своему усмотрению изымали понравившееся им имущество, помимо воли членов правления смещали неугодных им председателей, назначая на их место своих ставленников. Подобные факты имели место во многих кантонах.
Наибольшие темпы снижения деятельности кредитно-финансовой кооперации приходятся на период 1919-1920 гг., когда правящим руководством страны был принят курс на её ликвидацию. Номинально возрастающие цифры, отражающие кредитно-финансовую деятельность кооперации, не отражают реального положения дел, так как не учитывают возрастающую инфляцию. Если учесть оборот 1917 года в 1660089 рублей и с учетом инфляции 1921 года сравнить с показателями денежного оборота этого года, то снижение его уровня окажется более чем в 75 раз. Если в 1914 году ссудно-сберегательными товарищами было заготовлено около 1,5 млн. пудов продуктов, то в 1918 году – только 864200 пудов.
Таким образом, по Средневолжской кредитной кооперации в результате политики большевиков с ликвидацией Московского Народного Банка был нанесен страшный, разрушительный удар, от которого в годы НЭП она так и не смогла полностью оправиться.
Л. 3a–3б.
Список литературы Кредитование сельской кооперации в начале ХХ в
- Вестник мелкого кредита. -1918. -№ 7. -С. 67-69.
- Кооперация и жизнь. -1918. -№ 2. -С. 36-38.
- Судьбы Народного Банка.//Союз потребителей». -1918. -№ 37. -С. 67-68.
- Зеленская Е.Н. Из истории советской кооперации в годы НЭПа. -М., 1995. -С. 78.
- НАРТ. Ф. 732. Оп. 1. Д. 20. Л. 16.
- Зеленская Е.Н. Из истории советской кооперации в годы НЭПа. -М., 1995. -С. 89.
- ГАУО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 116. Л. 109.
- ГАУО. Ф. 897. Оп. 2. Д. 6. Л. 17.
- Кооперация и жизнь. -1917. -№ 3. -С. 38-39.
- Самарский Земледелец. 1914. № 14 -15. -С. 488-450.
- ГАУО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 116. Л. 145-146.
- Кооперативная жизнь. -1918. -№ 3. -С. 36-38.
- Составлено по данным: НАРТ. Ф. 2352. Оп. 1. Д. 869. Л. 3а-3б