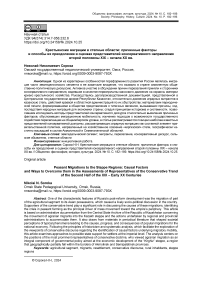Крестьянские миграции в степные области: причинные факторы и способы их преодоления в оценках представителей консервативного направления второй половины XIX - начала XX вв
Автор: Сорока Н.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Одной из характерных особенностей пореформенного развития России являлась миграция части земледельческого сегмента в ее азиатские владения, что вызвало в стране оживленную общественно-политическую дискуссию. Активное участие в обсуждении причин переселений приняли и сторонники консервативного направления, видевшие в качестве первопричины массового движения на окраины империи кризис крестьянского хозяйства. Руководствуясь делопроизводственной документацией, представленной в Центральном государственном архиве Республики Казахстан, относительно движения аграрных мигрантов в казахскую степь, действий краевой и областной администраций по их обустройству; материалами периодической печати, формировавшими в обществе представления о типичных явлениях, вызывавших причины, ход, последствия народных миграций для экономики страны; следуя принципам историзма и системности, позволившим исследовать взгляды представителей консервативного дискурса относительно выявления причинных факторов, обусловивших миграционную мобильность; изучению подходов о возможности государственного содействия переселенцам на общеимперском уровне, в статье рассматриваются позиции наиболее известных представителей консервативной доктрины, рассматривавших аграрную миграцию как составной элемент правительственной политики, направленный на хозяйственное освоение «киргизской» степи, географически частично вошедшей в состав Акмолинской и Семипалатинской областей.
Земледельческий сегмент, мигранты, переселение, консервативный дискурс, сельские обыватели, степные области
Короткий адрес: https://sciup.org/149147038
IDR: 149147038 | УДК: 94(574):314.7-058.232.6 | DOI: 10.24158/fik.2024.10.25
Текст научной статьи Крестьянские миграции в степные области: причинные факторы и способы их преодоления в оценках представителей консервативного направления второй половины XIX - начала XX вв
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
Во второй половине XIX в. в России начались модернизационные процессы, призванные способствовать усилению темпов экономического развития, завершению начавшегося еще в 1830-х гг. промышленного переворота, обеспечению роста производительности труда в аграрном и индустриальном секторах, становлению товарно-рыночных отношений.
Исходным началом переустройства всех сфер жизни российского государства послужило принятие имперским законодателем «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», Высочайше утвержденного 19 февраля 1861 г. (далее – Положение 1861 г.). В соответствии с данным законодательным актом крепостной крестьянин наделялся личной свободой и переводился в разряд «свободных сельских обывателей», что существенно расширяло его имущественные права. Теперь крестьянство могло свободно заниматься торговлей без взимания различного рода пошлин, открывать промышленные и ремесленные предприятия с правом реализации произведенной продукции не только в сельской местности, но и в городах, вступать в купеческие гильдии, приобретать на праве собственности движимое и недвижимое имущество, определять его юридическую судьбу.
Положением 1861 г. устанавливался и ряд государственных гарантий от посягательств помещика: на крестьянское имущество, на его «мирские» денежные средства и запасы хлеба закреплялись все правомочия собственника в отношении приобретенных ранее «сельскими обывателями» земельных участков.
Расширение имущественных прав способствовало увеличению и личных прав освобожденного от крепостной неволи крестьянства, поскольку помещик лишался полномочий выполнять функции «вотчинной полиции», а привлечение крестьян к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности осуществлялось либо на основании судебного решения, либо законного распоряжения правительственных органов или органов «общественного управления». Устанавливался запрет на вмешательство в личную и семейную жизнь: бывшие крепостные получали право вступать в семейные отношения, не спрашивая на то разрешения помещика; отдавать своих детей в «общие учебные заведения»; наделялись процессуальной правоспособностью, в том числе правом подавать жалобы и исковые заявления. Это касалось и тех лиц, на землях которых они были поселены1.
Однако декларированная законодателем цель – сформировать в России класс крестьян-собственников, хозяйственная самодостаточность которых позволяла им в полном объеме удовлетворять свои насущные потребности, – не была достигнута. Полученные в недостаточном количестве земельные участки и низкая их продуктивность, нехватка тягловой силы, экстенсивный способ ведения пашенного земледелия, практическая недоступность в получении дешевого кредита на развитие собственного хозяйства ‒ все это резко снижало и без того невысокую доходность крестьянских хозяйств. Положением 1861 г. закреплялись и черты внеэкономического принуждения: возмездность освобождения, обязанность уплаты различного рода казенных, земских, натуральных и денежных повинностей, усложненная процедура выхода из сельского общества и прикрепление к наделу, наличие временнообязанного состояния, зависимость от местной администрации.
Реализация на практике противоречивых канонов Положения 1861 г. способствовала дальнейшему обнищанию значительной части крестьянского населения. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, оно было вынуждено продавать за бесценок свои земельные наделы, перемещаться в город и устраиваться в качестве наемных работников на промышленные предприятия, формируя совершенно новый для государства класс – пролетариат. Другая же часть стала переселяться в восточные районы Российской империи, которые в силу своих природно-географических условий были пригодны для развития земледельческого хозяйства: Сибирь, Дальний Восток, казахскую (в то время – «киргизскую») степь.
Миграционный поток в степные области, начавшийся на рубеже 1870‒1880-х гг. и стремительно набиравший обороты в последующие десятилетия, достиг своего апогея в начале 1891‒ 1892 гг., когда только на наиболее плодородные земли Акмолинской области переселилось 18 260 человек2. К середине XIX в. численность переселенцев еще более возросла, достигнув 416 270
человек1, а уже в конце XIX в. в восьми уездах степных областей было организовано 43 волости, в которых вновь водворенное население обладало 1,4 млн дес. земли (Сулейменов, Басин, 1981).
Вопросам аграрных миграций в зауральские территории во второй половине XIX – начале XX вв. посвящено немало исследований. Несмотря на накопленный их объем, интерес современных историков к переселенческим процессам, факторам миграционной мобильности, влиянию природно-климатических условий на адаптацию новоселов, ментальности и имперским практикам оказания помощи переселенцам, взаимодействию центральных властей и местных сообществ по-прежнему не ослабевает. К числу наиболее значимых публикаций, затрагивающих данную проблематику, следует отнести работы Ж.А. Ермекбаева (2016), Е.В. Карих (2004), С.И. Ковальской (2017), И.И. Кротт (2008), А.К. Рахимбековой2, А.В. Ремнёва и Н.Г. Суворовой (2013), Н.И. Родигиной (2003), М.К. Чуркина (2006; 2019) и др. Данные исследования свидетельствуют, что существующие в современной исторической науке обоснования сущности причин, характера и последствий крестьянских миграций второй половины XIX – начала XX вв. не следует рассматривать в полной мере как достаточные.
Отсутствие у дореволюционных исследователей научного подхода при оценке переселенческого процесса, сложные и нередко противоречивые его перипетии, постепенная смена правительственной парадигмы относительно устремленности части крестьянского сегмента в районы Азиатской России – от установлений общего характера до разработки теоретически обоснованной стратегической линии, направленной на подчинение миграционных потоков потребностям экономического развития империи – вызывали широкий резонанс и обсуждение в российском обществе. В полемических спорах относительно целесообразности народных аграрных миграций в «киргизскую» степь, наряду с представителями народнических и либеральных воззрений, активное участие принимали и сторонники консервативного направления. Занимая должности на государственной службе, будучи юристами, публицистами и экономистами, они имели возможность располагать реальными данными о крестьянском благосостоянии в пореформенный период.
Детальное исследование мелкотоварного хозяйства «сельских обывателей» приверженцами консервативного направления привело их к неутешительному выводу: предпринимаемые правительственными органами меры «внутреннего» характера по минимизации «земельного утеснения» не дали должного эффекта, не носят комплексного характера и способны кардинальным образом повлиять на динамику миграционной активности. Основная причина упадка крестьянского хозяйства – малоземелье – была сформулирована в базовом принципе Положения 1861 г.: наделение крестьянина земельным участком в таком количестве, чтобы он накрепко привязал его к «обществу» и не допускал ухода в город. Не случайно, что по итогам реформы только 13,9 % бывших помещичьих крестьян получили наделы земли, обеспечивавшие им прожиточный минимум, в то время как 42,6 % – наделы, не способные гарантировать даже элементарный достаток крестьянской семьи (Рубакин, 1912).
Участники консервативного дискурса констатировали, что все предлагаемые ими рекомендации по улучшению состояния крестьянского хозяйства – переход к интенсивному землепользованию, недопущение дробления крестьянских участков, поддержка наиболее нуждающейся части «сельских обывателей» посредством организации льготного кредитования с целью покупки казенных незаселенных земельных участков – не возымели на государство никакого действия и не дали нужного результата. Исходя из этого, единственным способом по разрешению земельного голода следовало признать организацию переселения обезземеленного сегмента в «пустынные» территории «киргизской» степи при содействии государства.
Высказывая свою позицию относительно уже начавшегося водворения в степные области, отдельные представители консервативного направления предлагали рассматривать его не как вредное экономическое явление, а как естественный способ хозяйственного освоения степных пространств, которое при надлежащем руководстве со стороны имперских властей будет способствовать росту экономического могущества страны, укреплению ее влияния в национальных окраинах. Формируемый посредством переселения внутренний рынок не будет подвержен влиянию внешних факторов, включая колебания биржевого курса, рост таможенных пошлин, изменения в политической конъюнктуре3. По мнению российского государствоведа К.Д. Кавелина, заселяя территорию «киргизской» степи, которая в соответствии с «Положением об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями» от 25 марта 1891 г. объявлялась государственной собственностью4, государство тем самым переместит в национальные окраины избыточное сельскохозяйственное население, посредством которого вовлечет в сельскохозяйственный оборот слабо обрабатываемые степные пространства, окажет цивилизующее воздействие на кочевой «инородческий» быт, а самое главное - снимет с себя обязанность оказывать экономическую поддержку наиболее обедневшим «сельским обывателям» (Кавелин, 1882).
Активным сторонником переселения в степные области являлся и известный общественный деятель К.Ф. Головин. Рассуждая о причинных факторах народной аграрной миграции и способах их разрешения, он пришел к выводу, что данное явление не следует рассматривать как частную крестьянскую инициативу, вызванную малоземельем и неподъемной суммой выкупных платежей, не выдерживающих никакой критики. По мнению исследователя, переселенческий процесс следует рассматривать как составную часть правительственной аграрной политики, посредством реализации которой государство может приступить к разработке нетронутых земельных просторов «киргизской» степи и обеспечить производительность страны. Автор констатировал, что ввиду этого правительство должно немедленно разработать механизмы, призванные устранить препятствия, мешающие движению в степные области, оказывать необходимое содействие «историческому тяготению к окраинам», предоставлять земельные участки в местах водворения на льготных условиях (Головин, 1886: 647-648).
Как утверждал К.Ф. Головин, декларируя свободу переселений, государство одновременно разрешает ряд насущных проблем экономической жизни пореформенной России.
Во-первых, облегчая свободу переселенческого движения, имперские власти реформируют и законодательную базу, поскольку Положение 1861 г. предусматривало сложную бюрократическую процедуру, многочисленные запреты при выходе крестьян из сельского общества, к которому они были приписаны, и не менее стеснительные условия при их приеме в другое общество. Данные требования, отражавшие негативное отношение имперских властей к переселению, существенно затрудняли фактически начавшийся миграционный поток.
Во-вторых, содействуя миграционным процессам, властные органы предотвращают дальнейшее дробление крестьянских наделов, облегчая тем самым передачу их в иные руки без согласования с «обществом». Данная мера окажет позитивное влияние на развитие рынка земельных отношений, а определение юридической судьбы своих земельных участков - сдача в аренду или продажа - позволит потенциальному переселенцу выручить денежную сумму, необходимую для первоначального обустройства на месте их водворения.
В-третьих, поддерживая хозяйственное освоение степных областей, власти отказываются от политики стороннего наблюдателя, берут переселенческий поток под свой контроль, предотвращают самовольное движение без применения мер административного характера. В качестве альтернативы предлагались способы экономического стимулирования: выдача ссуды на путевые расходы, поддержка разорившихся семей в местах водворения, отвод земельных участков с предоставлением необходимых строительных материалов на домообзаводство, снабжение сельскохозяйственной техникой (Головин, 1881).
За активизацию переселения как одну из составляющих «разумной» аграрной правительственной политики выступал и популярный русский публицист А.И. Иванов. Поддерживая «правильную земледельческую колонизацию» казахской степи, он предлагал уделять особое внимание при оказании государственного содействия, прежде всего, большим крестьянским семьям, упростив для этого порядок выдачи им паспортов. Исследователь полагал, что именно данная категория мигрантов является наиболее благонадежным для государства элементом, обладает трудолюбием, бережливостью и трезвостью ума, способна к самостоятельному хозяйствованию и жизни «без чьей-нибудь опеки». С целью успешной адаптации вновь водворившимся на новом месте жительства государству следует принять ряд мер: отвод удобных во всех отношениях земельных участков; возведение «простейших», но практичных строений; устройство крестьянских поселений, расположенных на безопасном расстоянии от инородческих кочевий; строительство дорог и оказание всемерного содействия при сбыте переселенцами их земледельческой продукции (Иванов, 1890: 242).
В числе наиболее обсуждаемых тем представителями консервативного дискурса являлся и вопрос о финансовой поддержке мигрантов, поскольку, достигнув места водворения многие из них оказывались фактически без средств к существованию. Проведенные в 1890-1893 гг. статистические исследования российским экономистом А.А. Исаевым показали, что только 8 % переселенцев обладали хорошими или достаточными средствами, в то время как 62 % приходили на новые места абсолютно нищими1.
На бедственное положение новых поселенцев и оказание им посильного финансового содействия обращали внимание как местные органы власти, так и отдельные должностные лица.
В одном из своих отчетов, адресованных на имя министра внутренних дел Степным генерал-губернатором Г.А. Колпаковским, отмечалось, что вновь прибывшие лица не обладают средствами для освоения земельных участков, поэтому вынуждены останавливаться в уже заселенных местностях либо возвращаться в места выхода. Для «скорого экономического благоустройства» региона и обустройства переселенцев краевой начальник предлагал выдавать мигрантам на безвозвратной основе денежное пособие, а в случае его непредоставления – ссуды на закупку семян и продовольствия. Предоставление такой помощи, по мнению должностного лица, проблему адаптации в полном объеме не решит, но в условиях аридности евразийской зоны, ранних заморозков, частых температурных перепадов и распространения степных вредителей будет не лишней и на первых порах удовлетворит насущные проблемы новоселов1.
Омский уездный начальник в своем рапорте от 25 июня 1894 г. на имя военного губернатора Акмолинской области также информировал о крайне безвыходно-бедственном положении прибывших в уезд переселенцев, отсутствии у них всяческих средств к обустройству, неимении денежных сумм для возвращения на родину. Чиновник сообщал, что, учитывая данные обстоятельства, он был вынужден предоставить им временное проживание и одновременно ходатайствовал о выделении мигрантам необходимой финансовой суммы на домообзаводство и наделении данных переселенцев землей2.
Не менее тревожная информация об имущественном состоянии мигрантов поступала от чиновников особых поручений, командированных Земским отделом МВД в переселенческие конторы, через которые переселенческие партии направлялись в степные области. Так, в частности, один из таких чиновников в своем письме от 06 мая 1893 г. за № 622 информировал губернатора Акмолинской области М.А. Ливенцова о том, что через Уфимскую губернию во вверенную ему область проследовало 43 семьи, крайне ограниченные в средствах, «… начиная от 0 руб. до 65 руб.». При этом особо отмечалось, что все эти семейства водворяются в область самовольно, оставив на месте выхода свои земельные наделы3.
Крайняя нужда, отсутствие денежных средств для обзаведения домашним хозяйством и занятия хлебопашеством вынуждали мигрантов самовольно заселяться на территорию «киргизских» кочевий, что вызывало серьезную озабоченность как самого «инородческого» населения, так и уездных властей. Показательным примером в этом плане служит жалоба казахов Аиртав-ской волости Кокчетавского уезда, адресованная на имя министра внутренних дел. Излагая суть претензии, Шарип Сертов и Басыр Манькулов сообщали о необходимости поддержки властями тысяч «блуждающих» и необустроенных переселенческих семей, которые самовольно занимают родовые угодья без всякой оплаты. Подобная практика, как отмечалось в жалобе, способствует обезземеливанию, нищете и ненужности существования аульного населения4.
Доведенные до нищеты мигранты неоднократно обращались к уездным властям с просьбой арендовать земли старожилого населения. В одном из таких прошений, рассматриваемом Кокчетавским уездным начальником в ноябре 1886 г., крестьянские семьи спрашивали разрешения на временное использование земельных участков с целью занятия хлебопашеством у жителей с. Кривоозёрное. Свою просьбу они мотивировали тем, что пришли в «крайнее положение», а неимение средств не позволяет им возвратиться назад5.
Отсутствие у мигрантов денежных средств, надлежащего крова и питания, семян и земледельческих орудий, недостаток ресурсов у администраций степных областей в разрешении проблем новоселов все больше убеждало представителей консервативного направления в том, что государство должно участвовать в финансировании переселенческого потока. Склоняя правительственные органы к поддержке аграрных мигрантов, настаивая на оказании им материальной поддержки от казны, публицисты и общественные деятели особо оговаривали, что государство – не филантроп, занимающийся благотворительной деятельностью. Такое содействие может быть оказано только действительно нуждающимся семьям, для которых «выход» в степные области и получение надела для занятия земледельческим промыслом представляет собой единственный способ поддержания своего существования. При этом, как отмечал К.Д. Кавелин, государственная поддержка должна включать в себя не только денежное пособие, но и обеспечение семенным фондом, необходимыми стройматериалами, продуктами питания, освобождение от различного рода повинностей. Публицист констатировал, что режим «неблагоразумной экономии» в вопросе обустройства переселенцев негативно отразится на материальном положении мигрантов, не окажет должного влияния на улучшение их быта. В конечном итоге, по мнению исследователя, экономя на оснащении новоселов всем необходимым в начальный период их оседания, государству придется тратить гораздо больше средств впоследствии (Кавелин, 1882: 60).
За упорядочение аграрной миграции и всемерную ее поддержку на общеимперском уровне выступал и управляющий Комитетом Сибирской железной дороги А.Н. Куломзин. Совершив в мае-сентябре 1896 г. инспекционную поездку в Сибирь и степные области с целью изучения переселенческого дела, он пришел к следующим выводам.
Во-первых, государство должно отказаться от мер карательного характера, предусмотренных Положением 1861 г. в отношении лиц, желающих переселиться на новые места. Чиновник указывал, что в числе первоочередных шагов следует упразднить требование об обязательности увольнительных приговоров от прежних сельских обществ и разрешить свободное водворение по приемным приговорам в старожильческие общества.
Во-вторых, заменить существующую разрозненную практику оказания финансовой поддержки со стороны частных благотворительных обществ на унифицированную выдачу ссуды из казны. В то же время особо оговаривалось, что подобная помощь должна оказываться лишь лицам, принимаемым в старожильческие поселения, а также тем, кто в ней действительно нуждается.
В-третьих, доводить до потенциальных переселенцев достоверные данные о количестве земель, отводимых под заселение, задействовав как средства массовой информации, так и институт земских начальников.
В-четвертых, стимулировать организацию семейных ходоков с предоставлением им льготного проезда для более детального ознакомления с потенциальным местом водворения1.
Настоятельно рекомендуя использовать данные меры, высокопоставленный чиновник исходил из социального состава мигрантов, большинство из которых – лица малообеспеченные либо обладающие средним достатком. А.Н. Куломзин отмечал, что именно данный миграционный сегмент создавал в 1880-е гг. «дышащие довольством» переселенческие поселки без всякого содействия казны. В качестве примера чиновник приводит ситуацию в Акмолинском, Атбасарском и Кок-четавском уездах Акмолинской области, где лица, ничего не вывезшие из родных мест, имеют дома, пашни, небольшое поголовье крупного рогатого скота благодаря своему труду. Отдельные же поселенческие селения – Владимирское и Балкашиха – обладают уже и внушительными запасами зерна: 500 тыс. и 300 тыс. пудов запаса соответственно2.
Знакомясь с хозяйством мигрантов, влиятельный сановник все более убеждался, что именно «среднесостоятельный» переселенец является той социальной силой, которая осознает в себе запас душевной энергии и физических свойств, не нашедших выхода на родине, но способная их прилагать в далеком от себя крае, создавать хозяйственные ценности, содействовать экономическому «преуспеванию» осваиваемого региона. А.Н. Куломзин полагал, что, поддерживая «среднеобеспеченного» новосела, государство не только приобретет мощную для себя опору в казахской степи, но и со временем получит назад вложенные в него средства подъемом производительности в степных областях3.
Свободу крестьянских миграций активно поддерживал русский сельскохозяйственный и государственный деятель А.С. Ермолов. Прекрасно осведомленный с реальным состоянием дел в сельскохозяйственном секторе экономики страны, он объяснял причины переселенческого движения не столько кризисными явлениями, затронувшими все сферы мелкотоварного производства сельского сословия, сколько «неудобными» способами крестьянского землепользования. Однако, декларируя право на свободное перемещение, чиновник особо оговаривал, что, во-первых, данная мера может быть применима лишь в отношении губерний с высокой плотностью населения, и, во-вторых, хозяйственному освоению должны подлежать лишь малонаселенные национальные окраины, к числу которых относилась и территория казахской степи (Ермолов, 1906).
Предостерегая против форсирования переселенческого процесса, А.С. Ермолов указывал, что переезд в другие местности будет единственным выходом только в том случае, если у потенциального мигранта не останется реальных средств к существованию у себя на родине, экстенсивный способ ведения хозяйства полностью исчерпал свой потенциал, а принимаемые властями меры не дали положительного результата.
Отдельное внимание исследователь уделял упорядочению землеустройства в местах водворения и недопущению самовольного захвата земель коренного населения. В целях предотвращения нежелательных для государства последствий предлагалось проведение межевых работ, посредством которых должны быть разграничены земельные участки без нанесения ущерба «киргизскому» кочевому хозяйству. Настоятельно рекомендуя при проведении межевых работ привлекать квалифицированных землеустроителей, А.С. Ермолов подчеркивал, что казахские общинно-аульные группы уже начали постепенный переход к оседлости «… стали во многих местах и землю пахать, … хлеб сеять, … сено на зиму заготавливать»1, пространств для занятия хлебопашеством осталось сравнительно немного, поэтому любое ускоренное водворение мигрантов с насильственным изъятием для них земель из степного фонда приведет к сокращению жизненного ареала кочевания.
Таким образом, предоставление крестьянскому сословию личных и ряда имущественных прав не привели к существенному улучшению его положения. Исчерпав внутренние механизмы для поддержания своего хозяйства, наиболее обнищавшая часть земледельческого сегмента стала водворяться в районы Азиатской России, к числу которых относились и территории степных областей. Противоречивость миграционного процесса вызвала широкое обсуждение среди представителей консервативного направления относительно его причинных факторов и способов их преодоления. Рассматривая переселение как наиболее оптимальный способ по разрешению земельного голода, участники консервативного дискурса предлагали рассматривать его как средство хозяйственного освоения «киргизской» степи, которое при должном руководстве со стороны правительственных органов будет способствовать экономическому благополучию страны. Достижение указанной цели связывалось с признанием права на свободу переселения, всемерным содействием этому процессу и установлением государственного контроля за ним, а также с «разумной» финансовой поддержкой мигрантов.
Материалы настоящего исследования могут быть использованы при написании обобщающих работ по истории российско-казахстанских отношений, включении в учебные курсы при изучении соответствующих тем по региональной истории.
Список литературы Крестьянские миграции в степные области: причинные факторы и способы их преодоления в оценках представителей консервативного направления второй половины XIX - начала XX вв
- Головин К.Ф. Наше малоземелье и крестьянские переселения // Русский вестник. 1881. № 11. С. 203-208.
- Головин К.Ф. Наша сельская община // Русский вестник. 1886. № 1. С. 647-648.
- Ермекбай Ж.А. Из истории изучения Казахского края в Российской империи в XVIII - XIX вв. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 404. С. 81-88. https://doi.org/10.17223/15617793/404/12.
- Ермолов А.С. Наш земельный вопрос: I. Земля и труд. II. Крестьяне и земля. III. Действительность и земельные утопии. СПб., 1906. 293 с.
- Иванов А.И. Русская колонизация в Туркестанском крае // Русский вестник. 1890. № 11. С. 226-244.
- Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. Исследование о значении у нас крестьянского дела, причинах его упадка, и мерах к поднятию сельского хозяйства и быта поселян. СПб., 1882. 211 с.
- Карих Е.В. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе ее хозяйственного освоения: XIX - начало XX в.: монография. Томск, 2004. 232 с.
- Ковальская С.И. Взаимоотношения «центра» и «периферии» в условиях этноконфессиональной гетерогенности имперского пространства // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. / отв. ред. М.К. Чуркин. Омск, 2017. № 14. С. 69-76.
- Кротт И.И. Новая локальная история: конструирование объекта и границ изучения // Методологические проблемы исторического познания: сб. науч. тр. / отв. ред. В.Н. Худяков, И.И. Кротт. Омск, 2008. С. 53-59.
- Ремнёв А.В., Суворова Н.Г. Колонизация Азиатской России: имперские и национальные сценарии второй половины XIX - начала XX века: монография. Омск, 2013. 248 с.
- Родигина Н.И. Переселенческие чиновники о крестьянских миграциях в Сибирь во второй половине XIX в. // Жить законом: Правовое и правоведческое пространство истории: сб. науч. тр. / под ред. В.А. Зверева. Новосибирск, 2003. С. 88-104.
- Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы. Опыт статистической характеристики сословно-клас-сового состава населения русского государства (На основании официальных и научных исследований). СПб., 1912. 216 с.
- Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII - начале XX века. Алма-Ата, 1981. 248 с.
- Чуркин М.К. Переселения крестьян черноземного центра Европейской России в Западную Сибирь во второй половине XIX - начале XX вв.: детерминирующие факторы миграционной мобильности и адаптации: монография. Омск, 2006. 376 с.
- Чуркин М.К., Токмурзаев Б.С. Аграрная колонизация Степного края: общественно-политический дискурс и имперские практики второй половины XIX - начала XX вв.: монография. Омск, 2019. 262 с.