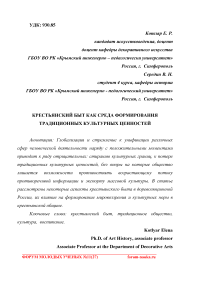Крестьянский быт как среда формирования традиционных культурных ценностей
Автор: Котляр Е.Р., Середин В.Н.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 11-1 (27), 2018 года.
Бесплатный доступ
Глобализация и стремление к унификации различных сфер человеческой деятельности наряду с положительными моментами приводит к ряду отрицательных: стиранию культурных границ, к потере традиционных культурных ценностей, без опоры на которые общество лишается возможности противостоять возрастающему потоку противоречивой информации и экспорту массовой культуры. В статье рассмотрены некоторые аспекты крестьянского быта в дореволюционной России, их влияние на формирование мировоззрения и культурных норм в крестьянской общине.
Крестьянский быт, традиционное общество, культура, воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/140280425
IDR: 140280425
Текст научной статьи Крестьянский быт как среда формирования традиционных культурных ценностей
Kotlyar Elena
Ph.D. of Art History, associate professor Associate Professor at the Department of Decorative Arts
Crimean Engineering - Pedagogical University
Russia, Simferopol
Seredin Valeriy
4 th year student, department of history Crimean Engineering - Pedagogical University
Russia, Simferopol
PEASANT IS LIKE THE FORMATION OF TRADITIONAL CULTURAL VALUES
Annotation : Globalization and the desire to unify various spheres of human activity along with positive moments lead to the erasure of cultural boundaries, to the loss of traditional cultural values, without reliance on which society is deprived of the opportunity to withstand the growing flow of contradictory information and the export of mass culture. The article discusses some aspects of peasant life in pre-revolutionary Russia, their influence on the formation of the world outlook and cultural norms in the peasant community.
В современном мире идет процесс унификации культуры на основе западных ценностей, что подразумевает руководство Запада в духовной и культурной сфере. В то же время в современной России в течение нескольких десятилетий происходит утрата традиционных «собственных» ценностей, что сопряжено с определенными трудностями, вытекающими из особенностей нашего исторического развития. Россия в последнюю четверть века пыталась вписаться в западный цивилизационный проект, отринув культурное наследие Советского Союза, также как и век назад, по словам гимна, «до основанья» был разрушен «мир насилья».
Стоит отметить, что большевики, разрушая прежние культурные традиции, предложили мощную, всестороннюю программу культурных ценностей, которая на деле доказала свое право на жизнь. Это и победа во Второй мировой войне, и полет первого человека в космос, братская помощь развивающимся странам ступивших на социалистический путь развития, что невозможно без мощной научной базы, победы советских спортсменов и многое другое.
Общество дважды отказалось, таким образом, от своих корней, традиций, от собственного пути развития, перечеркнуло все «старое», но взамен ему не было предложено ничего нового, и освободившееся пространство заполнилось извне тем, что предлагает массовая культура. Между тем, мир, который отвергла советская идеология, всячески пытаясь его очернить, оттенив, таким образом, свои достижения, имел довольно стройную экономическую и социальную структуру, а мифы о крепостной России, где крестьянин только и делал, что терпел побои от помещика и злоупотреблял алкоголем, значительно преувеличены.
По данным русского статистика Александра Григорьевича Тройницкого (1807–1871) к 1858 г. (10-я ревизия), численность крепостных в Российской империи доходила до 22.518.647 человек, что составляло около 34.39 % населения [6, с. 52, 83]. Подавляющее большинство, при этом до 67% крепостных проживало в губерниях европейской части России. На севере страны, в Остзейских (Прибалтийских) губерниях, в Земле Черноморского войска, в Крыму, за Уралом (в Сибири численность крепостных обоего пола составляла 4338 чел.), в мусульманских областях Кавказа крепостничества практически не было [6, с. 11, 21]. Важно отметить, что число крепостных в России постепенно снижалось: по данным 8-й ревизии (1833–1835 гг.) число крепостных составляло 44.93 %, т.е. естественная убыль составила 7.5% [6, с. 83]. В это же то время, историк и демограф Адольф Григорьевич Рашин (1888–1960) отмечал, что численность свободных крестьян неуклонно увеличивалась: за 23 года прирост населения составил 3.34 млн. человек с 16.81 млн. чел., в 1835 году до 20.5 млн. чел., в 1858 г. [5, с. 4].
Сложившееся в советскую эпоху мнение о невежественности крестьянства не выдерживает никакой критики, т.к. проведение сельскохозяйственных работ требовало от крестьянина немалых знаний и навыков. В современном мире для удовлетворения потребности в специалистах в области сельского хозяйства работают десятки сельскохозяйственных институтов и прочих учебных и научных заведений. В крестьянской же среде знания об агротехнических приемах, сроках и способах посева, уборки урожая и его сохранности, свойствах почвы, метеорологических условиях и многом другом генерировались и сохранялись на протяжении многих поколений и являлись коллективным достоянием всей общины. Важно отметить, что помещики в инструкциях управителям имений указывали: «Поступать во всем так, как крестьяне обычаи имеют свой хлеб возделывать» [2, с.12].
Только в 1860-70-х гг. вопрос о сельскохозяйственном образовании начал особенно интересовать широкую общественность. В это время появились проекты создания образцовых хозяйств с целью популяризации новых методов ведения хозяйства. М. М. Есикова отмечает, что в начальных сельских школах того времени внедряли идею преподавания основ сельского хозяйства, а в 1902 г. преподавание данного предмета было введено в учебных заведениях по подготовке учителей. В 1904 г. в России было пять высших сельскохозяйственных учебных заведений [3].
Невозможно представить себе крестьянский быт без тягловых животных, крупного и мелкого домашнего скота, птицы, для разведения которых также необходимы комплексные знания и умения по уходу за животными, условиям содержания, способах разведения и селекции, ветеринарным навыкам. Необходимо помнить, что подавляющее большинство необходимого производственного инвентаря и потребность в бытовых изделиях покрывалась непосредственно кустарным методом крестьянской семьей либо общиной. Постройка избы, хозяйственных и бытовых помещений требовали строительных навыков. Тонкости охоты, рыбной ловли, бортничества, знание лесных ягод, грибов и трав, способов заготовки и сохранения продуктов питания и многое другое являлось обычным повседневным занятием в крестьянском быту, без которого семья просто не могла существовать.
Неорганизованность и социальная пассивность крестьян также является во многом необоснованным предубеждением. Важным фактором социальной жизни крестьян была сельская община, формирование которой уходит своими корнями в древность. Она выступала не только хозяйственным союзом, но и институтом социальной защиты крестьянина от неблагоприятных природных и социальных факторов, таких как отсутствие работоспособных членов семьи, налоговый гнет, неурожай, пожар и др., и в ряде случаев обеспечивала физическое выживание его семьи.
В крестьянской общине бытовало такое понятие как «мироплатимые» наделы. Выполнение повинностей и оплату податей, которые налагались за использование определенного надела, община (мир) брала на себя. По решению сельского схода «мироплатимые» наделы выделяли инвалидам, пострадавшим на службе, вдовам, сиротам, которым также часто оказывалась помощь трудом во время сельскохозяйственной страды. Из общественных хлебных магазинов по решению сельского схода хлеб выделяли малолетним сиротам, утратившим кормильца, и старикам. Кроме этого, крестьяне миром решала вопросы постройки общественных и социальных объектов: церкви, мельницы, мостов, мощение и содержание дорог и др. [2, с.73–78].
Помощь односельчанам, оказавшимся в трудном положении, регулировалась целой системой норм поведения, а помощь представляла собой одновременно и обязанность и привилегию. Данный механизм «моральной экономики» основывался на житейской логике обеспечения хозяйственных интересов общины, в противном случае чрезмерное обнищание крестьянского хозяйства становилось для него обузой. Значение взаимопомощи в традиционном обществе подробно раскрыты в статье А. Г. Никитиной «Взаимопомощь как неотъемлемая составляющая «моральной экономики» крестьянства» [4].
Не менее интересным явлением социально-экономической жизни в крестьянской среде была артель. Основоположник российской бюджетной статистики Федор Андреевич Щербина (1849–1920), автор труда «Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм», собрал обширный материал касательно становления и развития артелей, классифицировал «общинно-артельные формы» [8, с. 127–128]. Взаимоотношения в артели регулировались, в первую очередь, нормами обычного права, на основе взаимопомощи и взаимовыручки. Кроме того, по мнению экономиста М. И. Туган-Барановского (1865–1919), прием новых членов в артель затруднялась тем, что «успех артели возможен только при подборе рабочих, обладающих более или менее исключительными моральными и интеллектуальными свойствами» [7, с. 203.]. Часто артель собиралась на определенное время (как правило, крестьяне уходили на заработки по окончании сезона полевых работ и возвращались к его началу). Дополнительные средства давали семье возможность пережить долгий зимний период, расширялся кругозор артельщика, его социальные навыки. Наиболее распространенными являлись артели: каменщиков, печников, кровельщиков, плотников, столяров, бурлаков, грузчиков, маляров, иконописцев и др. В основном артель насчитывала до десяти работников, но иногда особо удачных артелях численность могла доходить до 130 и более человек.
К концу XIX в. широкое распространение получает кооперативное движение, включавшее в себя как производственное так и экономическое взаимодействие. На 1 января 1918 г. в стране насчитывалось 51417 кооперативов, членами которых были около 22 млн. человек. Россия по числу кооперативов вышла на первое место в мире [1, с. 23].
Выводы:
Крепостные не были преобладающим населением в дореволюционной России. Весь крестьянский быт базировался на широком спектре знаний в различных сферах человеческой деятельности. Нестабильное положение крестьянского хозяйства, зависящего от природоклиматических факторов, налоговой политики государства, рыночной конъюнктуры, и пр., требовало от крестьянина поиска дополнительных форм заработка. Социально адаптированная и подвижная часть крестьян объединялась в артели, которые была призваны решать хозяйственные, производственные, а часто и социальные задачи сельской общины и отдельно взятой семьи. Все перечисленные факторы свидетельстуют о высоком уровне развития крестьянской общины и важности ее роли в формировании национальной культуры.
Список литературы Крестьянский быт как среда формирования традиционных культурных ценностей
- Аверьянов В. В. Артель и артельный человек / В. В. Аверьянов, В. Ю. Венедиктов, А. В. Козлов. - М.: Институт русской цивилизации, 2014. - 688 с.
- Громыко М. М. Мир русской деревни / М. М. Громыко. - М.: Молодая гвардия, 1991. - 446 с.
- Есикова М. М. Сельскохозяйственное образование в России (вторая половина XIX в. - 1917 г.) / М. М. Есикова // Власть. - 2010 г. - № 7. - С. 150-154.
- Никитина Г. А. Взаимопомощь. Как неотъемлемая составляющая «Моральной экономики» крестьянства / Г. А. Никитина // Ежигодник финно-угорских исследований. - 2014 г. - № 2. - С. 74-81.
- Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.) Статистические очерки. Под ред. С. Г. Струмилина / А. Г. Рашин. - М.: Государственное статистическое издательство, 1956. - 352 с.
- Тройницкий А. Г. Крепостное население в России по 10-й народной переписи / А. Г. Тройницкий. - СПб.: Тип. Карла Вульфа., 1861. - 92 с.
- Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. - 5-е изд. - М.: Экономика, 2010. - 496 с.
- Щербина Ф. А. Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм / Ф. А. Щербина. - Одесса, 1881. - 382 с.