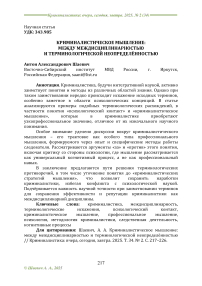Криминалистическое мышление: между междисциплинарностью и терминологической неопределенностью
Автор: Шаевич А.А.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.
Бесплатный доступ
Криминалистика, будучи интегративной наукой, активно заимствует понятия и методы из различных областей знания. Однако при таком заимствовании нередко происходит искажение исходных терминов, особенно заметное в области психологических концепций. В статье анализируются примеры подобных терминологических расхождений, в частности понятия «психологический контакт» и «криминалистическое мышление», которые в криминалистике приобретают узкопрофессиональное значение, отличное от их изначального научного понимания. Особое внимание уделено дискуссии вокруг криминалистического мышления - его трактовке как особого типа профессионального мышления, формируемого через опыт и специфические методы работы следователя. Рассматриваются аргументы «за» и «против» этого понятия, включая критику со стороны психологии, где мышление рассматривается как универсальный когнитивный процесс, а не как профессиональный навык. В заключение предлагаются пути решения терминологических противоречий, в том числе уточнение понятия до «криминалистических стратегий мышления», что позволит сохранить наработки криминалистики, избегая конфликта с психологической наукой. Подчёркивается важность научной точности при заимствовании терминов для сохранения эффективности и репутации криминалистики как междисциплинарной дисциплины.
Криминалистика, междисциплинарность, терминологические искажения, психологический контакт, криминалистическое мышление, профессиональное мышление, психология, методология криминалистики, следственная деятельность, когнитивные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/143184963
IDR: 143184963 | УДК: 343.985
Текст научной статьи Криминалистическое мышление: между междисциплинарностью и терминологической неопределенностью
Криминалистика традиционно позиционируется как интегративная научная дисциплина, объединяющая в себе элементы различных наук: права, психологии, медицины, биологии, химии, физики, логики, информатики и даже ис- кусства. Эта междисциплинарность позволяет криминалистике эффективно решать задачи по раскрытию и расследованию преступлений, анализу следов и поведения участников правонарушений, однако зачастую при таком синтезе базовые понятия других наук не просто адаптируются под нужды криминалистики, но и искажаются, теряя свои исходные значения. Это особенно заметно в использовании психологических концепций в рамках криминалистической практики.
Интегративный характер криминалистики заключается в том, что она использует уже разработанные модели и методы из смежных областей. Эта интеграция делает криминалистику мощным инструментом правоохранительной деятельности, однако заимствование терминов не всегда сопровождается сохранением их исходного смысла, поскольку в процессе такого «перевода» понятий из одной научной области в другую возникают существенные искажения, в результате которых термины и концепции из других областей приобретают узкоспециализированное значение, которое может расходиться с исходным смыслом. Особенно ярко это проявляется в использовании психологических терминов, когда речь идет о психологических категориях, которые в криминалистике нередко приобретают инструментально-манипулятивный оттенок.
Например, одним из часто употребляемых терминов в криминалистике является «психологический контакт», который обычно ассоциируется с установлением доверия, эмпатии и коммуникативной связи между следователем и допрашиваемым лицом. Однако в рамках научной психологии аналогичный термин имеет более строгое определение: это осознанное взаимодействие между людь- ми, основанное на восприятии, принятии и рефлексии. Термин связан с теориями Курта Левина, Карла Роджерса и гештальт-терапией. Главной задачей здесь является достижение глубокого взаимопонимания и изменение внутренних установок личности. В криминалистике же этот термин часто используется в контексте тактики допроса или получения информации, где главная цель – получить нужные показания, а не развивать личность допрашиваемого. Более подробно эту проблему мы уже неоднократно рассматривали ранее [см: 1; 2].
Еще одним примером искажения понятий является использование термина «мышление» в криминалистическом контексте.
Основная часть
Одной из заметных категорий криминалистики является криминалистическое мышление, которое, как отмечают некоторые авторы «представляет собой как теоретико-содержательную, так и прикладную криминалистическую категорию» [3, с. 71]. Коротко криминалистическое мышление можно охарактеризовать как особый тип профессионального мышления, направленный на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.
Оно формируется как синтез специальных знаний, логических операций, навыков анализа и интуитивных способностей следователя, что позволяет ему эффективно решать задачи, связанные с познанием прошлых событий и установлением обстоятельств совершенных преступлений. Такое мышление выступает не просто совокупностью умений и навыков, но и отражает стиль научного и практического подхода к процессу расследования, основываясь на принципах объективности, законности, аналитичности и творческой активности. Однако несмотря на значительное внимание, уделяемое этой категории в научной литературе, понятие и содержание криминалистического мышления остаются дискуссионными, что связано как с его многогранностью, так и с различиями в интерпретации данного феномена среди представителей юридической науки.
Еще Н. П. Яблоков акцентировал внимание на том, что категория криминалистического мышления недостаточно разработана и не получила должного развития в современной криминалистике, несмотря на её ключевую роль в профессиональной деятельности следователя. Как он указывает в своей статье, ещё такие классики криминалистики, как Ганс Гросс, Альфред Рейсс и Эрих Анушат, указывали на важность формирования особого типа мышления у следователей. Однако, по мнению Яблокова, эти идеи так и не были реализованы в виде систематизированной научной теории или методики обучения, в связи с чем ученый призывает к разработке целостной теоретической концепции криминалистического мышления как самостоятельной научной категории. В рамках этой концепции должны быть раскрыты информационная сущность, структура и научные основы такого мышления, его роль в решении криминалистических и иных юридических задач [4].
После этой публикации одного из ведущих отечественных криминалистов было опубликовано множество работ, посвященных данной теме в разных контекстах [см. напр.: 5; 6; 7], одно перечисление которых займет несколько страниц, мы же рассмотрим некоторые из них, которые, по нашему мнению, наиболее ярко способны продемонстрировать суть разногласий относительно понимания рассматриваемой категории.
Так, А. Л. Пермяков поднимает вопрос о том, что, несмотря на утверждения некоторых исследователей о единообразии человеческого мышления, в рамках профессиональной деятельности, особенно такой специфической, как расследование преступлений, существует уникальная форма мыслительных процессов – криминалистическое (или следственное) мышление. Автор не соглашается с точкой зрения А. Р. Белкина, отрицавшего существование специфических видов мышления (например, судебного или следственного) и полагавшего, что все формы мышления строятся на одних и тех же законах формальной логики. А. Л. Пермяков соглашается с тем, что базовые логические законы универсальны, но указывает на то, что на их основе возникают более высокие уровни мышления, зависящие от предметной области. Так, в сфере расследования преступлений эти законы применяются в специфическом контексте, где важны профессио- нальные навыки, интуиция, а также знание частных методик расследования. Следователь, согласно позиции автора, сталкивается с необходимостью анализа сложных юридических, тактических и фактических обстоятельств, требующих применения специфических алгоритмов мышления. Эти алгоритмы отличаются от повседневного восприятия реальности и предполагают использование логических моделей, системного подхода и диалектического осмысления связей между фактами. При этом такие процессы могут формироваться как в ходе теоретического обучения, так и через практический опыт, даже при отсутствии юридического образования [9].
Своеобразным знаком того, насколько прочно это словосочетание закрепилось в современной криминалистической парадигме, можно считать следующий примечательный факт. Статья «Некоторые проблемы криминалистики в свете сегодняшнего дня», опубликованная в журнале «Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан», за авторством доктора юридических наук, профессора Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета С. К. Журсимбаева и кандидата юридических наук, начальника Центра Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Е. С. Кемали посвящена анализу современных проблем и перспектив развития криминалистики. В работе под- черкивается важность совершенствования криминалистической науки, особенно в аспекте использования достижений информационных технологий, одорологии, георадаров и других технических средств. При этом авторы в качестве ключевых слов в описании статьи указывают «криминалистическое мышление», которое далее в тексте самой статьи не встречается [10].
Среди авторов, внесших значительный вклад в развитие концепции криминалистического мышления, следует отметить Д. В. Бахтеева, проведшего системное исследование, которое можно рассматривать как новый этап в развитии данной научной категории, которую он определил как совокупность личностных характеристик познающего субъекта и способов обеспечения процесса познавательной деятельности, позволяющих воспринимать и обрабатывать фрагментированную, неполную информацию в целях выявления и объяснения нарушений причинно-следственных связей, при этом подчеркивая, что криминалистическое мышление не является отдельным методом познания и не сводится к конечному перечню методов, а представляет собой некий продукт базовых личностных качеств познающего субъекта, его знаний в сочетании с определёнными инструментальными методами [11, с. 76-77].
Это определение подчеркивает не только когнитивные аспекты мышления, но и важность личностного фактора в процессе раскрытия преступлений. Таким образом, криминалистическое мышление не сводится к чисто логическим или техническим операциям, но имеет глубокую этическую и эмоциональную составляющую, что делает его сложным для формализации и стандартизации.
Кроме того, Д. В. Бахтеев существенно расширил понимание круга субъектов криминалистического мышления, включив в него не только следователей, но и судебных экспертов, прокурорских работников, адвокатов, что расширяет традиционную узкую трактовку, часто ограничивавшуюся только следственной деятельностью. Также автором предложена многоуровневая модель криминалистического мышления, акцент в которой делается на синергии компонентов – эффективность достигается за счет взаимодействия всех уровней, а не отдельных элементов:
-
1. Вертикальная структура (базовые компоненты):
-
- мировоззренческий уровень (профессиональные ценности и установки);
-
- лингвистический уровень (языковые средства анализа информации);
-
- мотивационный уровень (целеполагание и профессиональная мотивация);
-
- блок знаний (криминалистические, юридические, междисциплинарные).
-
2. Горизонтальная структура (инструментальные методы):
-
- логические (версионный анализ, гипотетико-дедуктивный метод);
-
- психологические (профилирование, рефлексивное моделирование);
-
- эвристические (творческие решения в условиях неопределенности);
-
- интуитивные (неосознаваемый опыт в сложных ситуациях).
-
3. Динамические аспекты:
-
- хронологическая последовательность (адаптация методов к этапам расследования);
-
- ситуационная гибкость (корректировка под изменяющиеся условия) [11, с. 77–96].
После выхода этого исследования можно говорить о том, что представляется не совсем оправданным утверждать, что «категория криминалистического мышления недостаточно разработана и не получила должного развития в современной криминалистике», однако дискуссионной эта категория осталась по-прежнему. Самым существенным аргументом против данной концепции представляется то, что термин «криминалистическое мышление» противоречит общепринятому в психологии пониманию мышления, а также представлениям о процессах формирования мышления.
Так, некоторые авторы подчеркивают, что мышление – это сложная психическая функция мозга, заключающаяся в обобщённом и опосредованном отражении действительности через логический анализ и синтез информации. Мышление тесно связано с речью и формируется в человеке на про- тяжении раннего возраста, а это означает, что основные виды мышления закладываются ещё в детстве и юности. «Поэтому говорить о криминалистическом мышлении в данном аспекте по отношению к практическим работникам правоохранительных органов некорректно» [12, с. 159].
По нашему мнению, такая точка зрения достаточно оправданна. В психологии мышление рассматривается как высшая форма психической активности, сложный, постепенно развивающийся процесс, который формируется через обучение, опыт, социальное взаимодействие и развитие речи. В криминалистике же говорят о «криминалистическом мышлении» как о способности следователя быстро находить связи между фактами, строить версии, прогнозировать развитие событий и принимать решения в условиях неопределенности в профессиональной деятельности, что формируется через профессиональный опыт и специальные методики. Таким образом, если в психологии мышление – это процесс, имеющий структуру и этапы, то в криминалистике оно чаще всего воспринимается как профессиональное качество. То есть в криминалистике акцент сделан на функциональной стороне мышления, а не на его структурнопроцессуальной основе, как это принято в психологии.
В результате данного противоречия «криминалистическое мышление», несмотря на его важное значение в теории и практике криминалистики, остается спорной и относительной категорией, поскольку использование термина в упрощённом или метафорическом смысле зачастую вызывает критику со стороны специалистов и тех, кто придерживается научного подхода.
Выводы и заключение
В качестве решения этих противоречий можно было бы предложить дополнить словосочетание и использовать его в следующем виде: «криминалистические стратегии мышления». Указанная позиция, во-первых, исключает диссонанс с психологической наукой, а во-вторых, способствует сохранению теоретических достижений и последовательной разработке подходов, заложенных учёными, которые исследовали проблему криминалистического мышления. А кроме того, данный термин более точно можно применять в обучении, оценке специалистов и разработке ИИ. Таким образом, небольшое дополнение не сводится к чисто терминологическим изменениям, а направлено на повышение научной и практической ценности концепции. Либо можно заявить, что это теперь собственный криминалистический термин, и с представлениями о сущности мышления, распространенными в психологии, просьба не сравнивать.