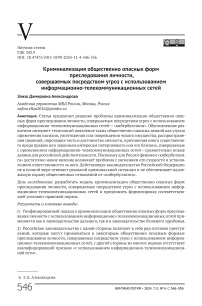Криминализация общественно опасных форм преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
Автор: Александрова Э.Д.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Предупреждение преступности
Статья в выпуске: 4 т.11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья предлагает решение проблемы криминализации общественно опасных форм преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей - «кибербуллинга». Обусловленное развитием интернет-технологий появление таких общественно опасных деяний как угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения сведений, порочащих честь и достоинство личности, причинения иного существенного вреда правам или законным интересам потерпевшего или его близких, совершаемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей - сравнительно новые деяния для российской действительности. Поскольку для России феномен «кибербуллинга» достаточно новое явление возникает проблема с уяснением его сущности и установлением ответственности за него. Действующее законодательство Российской Федерации не в полной мере отвечает реальной криминальной ситуации и не обеспечивает надлежащую охрану общественных отношений от «кибербуллинга». Цель исследования: разработать модель криминализации общественно опасных форм преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и предложить формулировку соответствующей уголовно-правовой нормы. Результаты и ключевые выводы: 1) Унифицированный подход к криминализации общественно опасных форм преследования личности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей применяется как в законодательстве дальнего, так и в законодательстве ближнего зарубежья. 2) Российское законодательство с одной стороны включает в себя ряд составов преступлений, которые могут применяться к некоторым общественно опасным формам преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, с другой стороны во многих нормах отсутствует квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационной сети». 3) Сегодня требуется принятие уголовно-правовой нормы, регулирующей ответственность за «кибербуллинг», что подтверждается данными анкетирования, экспертным опросом, а также отсутствием практики возбуждения уголовных дел по фактам травли в сети Интернет. В Главу 17 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо внести статью 128.2 «Угроза причинения вреда», что позволит снять потребность в криминализации общественно опасных форм преследования личности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Личность, угроза, преследование, запугивание, «кибербуллинг», дистанционное психическое насилие, информационно-телекоммуникационные сети, доведение до самоубийства
Короткий адрес: https://sciup.org/14132169
IDR: 14132169 | УДК: 343.9 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-4-546-556
Текст научной статьи Криминализация общественно опасных форм преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
Развитие информационно-телекоммуникационных сетей (далее — ИТС) принесло человечеству как много положительного, так и отрицательного. Негативная сторона данного прогресса заключается в создании нестандартного цифрового пространства, посредством которого совершаются киберпреступления. Ежегодно наблюдается рост числа преступлений, совершаемых с использованием ИТС, ущерб от которых причиняется большому количеству охраняемых Уголовным кодексом Российской Федерации (далее—УК РФ) интересов.
Кроме того, согласно отчету, опубликованному Министерством Российской Федерации (далее — МВД РФ) в 2023 году наблюдается рост данных преступлений, число которых выросло на 29,7 % (всего 676 951) по сравнению с 2022 годом. При этом доля интернет-преступлений от числа всех зарегистрированных в России — 33,3 %. Подобных преступлений раскрыто на 21 % больше, чем в 2022 году. Их профилактика по-прежнему остается одной из важнейших задач органов внутренних дел1.
С развитием информационно-телекоммуникационных технологий появились такие формы преследования личности, которые достигают уровня общественной опасности, но на сегодняшний день не находят своего отражения в нормах уголовного права. К таким общественно опасным формам преследования личности с использованием ИТС относятся: угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения сведений, порочащих честь и достоинство личности, причинения иного существенного вреда правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Указанное определило актуальность данного исследования.
Материал и методы
В статье использованы законодательные и нормативные акты, регламентирующие вопросы правового регулирования некоторых общественно опасных форм преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием ИТС, специальная литература по предмету исследования. Основу исследования составили сравнительно-правовой анализ, описание, метод классификации, синтез, статистический, опрос (190 сотрудников органов внутренних дел РФ), герменевтический методы.
Описание исследования
Отправной точкой изучения преследования личности с использованием ИТС считается конец 1990-х— начало 2000-х годов, который связан с наступлением информационно-технологического прогресса в зарубежных странах [6, с. 18].
В 1997 году канадский политик Билл Белси на основе понятия «буллинг», введенного в 90-е годы XX века норвежским ученым Д. Олвеусом [5, с. 46], предложил термин «кибербуллинг» — «использование информационных и коммуникативных технологий, например, электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов, для намеренного, неоднократного и враждебного поведения лица или группы, направленного на оскорбление других людей»1. В дальнейшем в зарубежных государствах начинают активно разрабатываться и применяться нормативно-правовые акты, направленные на регулирование «кибербуллинга».
Первым государством, которое криминализировало преследование личности с использованием ИТС, стали Соединенные Штаты Америки (далее— США). Уголовное законодательство данной страны предусмотрено в виде нормативно-правовых актов— Примерного Уголовного кодекса США 1962 года (далее—УК США) и отдельных Уголовных кодексов Штатов2. Обращение к источникам уголовного права Америки показало, что в Примерном УК США «кибербуллинг» не был криминализирован, а в уголовных кодексах 50 Штатов уголовная ответственность за него закреплена.
Так, в 1999 году Джорджия стала первым штатом, в котором была криминализирована травля с использованием ИТС (Georgia Laws 1999, H. B. 84, Chap. 282 (O.C.G.A. § 20-2-751.4 «Правила регулирования ки-бербуллинга»))3, а последним — Монтана, внесший в апреле 2015 года соответствующее дополнение в свой уголовный кодекс (Bully-Free Montana Act — H. B. 0284)4.
Уголовное законодательство Джорджии вместе с нормой о запрете травли с использованием ИТС включило положение о понятии «кибербуллинга»— умышленного преследования и запугивания человека с использованием цифровых технологий с целью их оскорбления, отправки оскорбительных или угрожающих текстовых сообщений и использования веб-сайтов для распространения слухов о других пользо-вателях5. На сегодняшний день подобные нормы имеются в уголовных кодексах всех штатов США. При этом единственным штатом, который в 2010 году помимо основных положений о «кибербуллинге» предусмотрел уголовную ответственность за угрозу причинения вреда здоровью или смерти путем устных, письменных или электронных сообщений, стал Невада6.
Трагическое событие, связанное с серией молодежных самоубийств в 2013 году, стало определяющим для принятия правительством Канады закона С-13 «О защите канадцев от онлайн-преступлений»7 в целях борьбы с травлей в сети Интернет, вступившего в силу 10 марта 2015 года и включающего поправки к Уголовному кодексу Канады 1892 года. В зависимости от характера преследования личности в киберпространстве в уголовный закон данной страны были включены следующие виды преступлений8: section (далее — sec.) 162.1. «Публикация интимных изображений без согласия»; sec. 241. «Консультирование по вопросам самоубийств»; sec. 264. «Распространение интимных или сексуальных фотографий кого-либо без его согласия»; sec. 264.1. «Угрозы»; sec. 298. «Ответственность за клевету»; sec. 346. «Вымогательство»; sec. 319. «Разжигание ненависти»; sec. 372. «Ложные сообщения, непристойные или оскорбительные телефонные звонки»; sec. 423. «Запугивание». При этом в sec. 423 данного уголовного кодекса было предусмотрено определение «киберзапугивания»— «использования информационных и коммуникационных технологий для поддержки преднамеренного, повторяющегося и враждебного поведения отдельного лица или группы, направленного на причинение вреда другим»1.
В Новой Зеландии уголовное законодательство представлено в форме отдельного нормативного правового акта «Закона о преступлениях 1961 года»2. В начале июля 2015 года в него был внесен акт «Закон о вредных цифровых коммуникациях», регулирующий ответственность за онлайн-угрозы, оскорбления, издевательства и унижения в сети Интернет и устанавливающий специальный режим к онлайн публикациям, которые могут причинить серьезный психический вред3. В данном законе также были закреплены 10 принципов, согласно которым компьютерная информация не должна нарушать конфиденциальность личной жизни, носить угрожающий характер, доводить до самоубийства, порочить человека4. В целях реализации «Закона о вредных цифровых коммуникациях» были созданы специальное уполномоченное подразделение «Агентство для борьбы с угрозами в киберпространстве» и суд, работающие совместно с Google, Twitter,
Facebook для расследования преступлений и ликвидации запрещенного контента.
В Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии так же, как и в Новой Зеландии, нет кодифицированного уголовного законодательства, что обусловлено особенностями англосаксонской правовой семьи. Основным источником уголовного права Великобритании является судебный прецедент, вследствие чего Королевская уголовная прокуратура определила процедуру вынесения уголовных наказаний по делам, связанным с оскорблениями, запугиванием и преследованием личности с использованием ИТС, в соответствие со следующими актами5: «Закон о непристойных публикациях 1959 года»; «Закон о публичном порядке 1986 года»; «Закон о злонамеренных сообщениях 1988 года»; «Закон о неправомерном использовании компьютеров 1959 года»; «Закон о запугивании 1997 года»; «Закон о коммуникациях 2003 года». Обращение к данным нормативно-правовым актам показало, что понятие «запугивание» было закреплено только в «Законе о злонамеренных сообщениях 1988 года», в котором под ним понималось «отправление писем, электронных сообщений или статей любого описания, а также содержащие неприличные или грубо оскорбительные выражения, угрозы или информацию, которая считается ложной отправителем, с целью причинения стресса или беспокойства получателю»6. В 2016 году был введен «Закон об оскорбительном поведении и причинения сексуального вреда 2016 го-да»7, который регулирует уголовную ответственность за угрозу опубликования изображений интимного характера.
Уголовное законодательство Австралии также относится к англосаксонской правовой семье и представлено в виде «Закона об уголовном кодексе 1995 года»1. Обращение к данному источнику уголовного права показало, что в нем отсутствуют специальные нормы о «кибербуллинге», однако в 2018 году в него были внесены поправки, включающие ряд преступлений, которые так или иначе могут иметь отношение к нему: sec. 474.14. «Использование телекоммуникационной сети с намерением совершить серьезное правонарушение»; sec. 474.15. «Угроза причинения серьезного вреда»; sec. 474.16. «Использование телекоммуникационной сети с намерением распространения ложной информации»; sec. 474.17. «Использование телекоммуникационной сети с намерением преследования личности».
В 2020 году впервые во Франции состоялся судебный процесс над участниками события, связанного с «делом Милы» (Mila affair)2, которое послужило принятию правительством Франции поправок к ее Уголовному кодексу в части регулирования ин-тернет-травли (Section 5, Article 222-33-2-2 «Преследование личности с помощью цифровых или электронных средств массовой информации»)3.
В 2022 году в Главу XXXIV Уголовного кодекса Японии было внесено дополнение, касающееся ужесточения уголовной ответственности за оскорбление в сети Интернет (Article 231, «Insults»). К тому же, в УК Японии содержится целая глава, посвященная преступлениям, связанным с запугиванием личности с использованием ИТС (Chapter XXXII «Crimes of Intimidation»)4.
В уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья частично уголовная ответственность за преследование личности с использованием ИТС было криминализировано только в Республике Казахстан. Так, согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан (далее —УК РК) от 16 июля 1997 г. № 167-I данное деяние может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 131 УК РК «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций»5.
Таким образом, мы видим, что общественно опасные формы преследования личности с использованием ИТС на протяжении длительного времени активно криминализируются и применяются в уголовных законодательствах дальнего и ближнего зарубежья.
В России развитие новых коммуникационных интернет-технологий началось еще в начале 90-х годов XX века, однако проблема распространения общественно опасных форм интернет-травли появилась сравнительно недавно [4, с. 64].
Первое упоминание о «кибербуллинге» в России появилось в Приложении № 2 к письму Минобрнауки России от 14 мая 2018 г. № 08-1184, в котором было отражено его определение — «это преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов»6.
На сегодняшний день в законодательстве России имеются нормы, косвенно регулирующие проблему преследования личности в сети Интернет. В зависимости от характера совершенных действий и правовых признаков, виновное лицо могут привлечь к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.
В 2023 году депутатами Госдумы был принят законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) о запрете приближаться к жертве (ст. 14.1 ГК РФ «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»). Члены нижней палаты В. Даванков, С. Аксентье-ва и К. Горячева, предложившие данный законопроект, отмечают, что целью внесения изменений в ГК РФ послужила необходимость установления правового механизма защиты граждан, подвергающихся преследованию со стороны других лиц. Запрет на приближение подразумевает собой ограничение свободы передвижения нарушителя, который может потенциально представлять угрозу для жизни и здоровья потерпевшего. По мнению депутатов, это помогает предотвратить дальнейшие случаи насилия или повторные преступные действия1. С внесением изменения в ГК РФ было пересмотрено решение Приволжского районного суда города Казани по гражданскому делу № 2-4575/2017 и на нарушителя (навязчивого преследователя женщины) была возложена обязанность прекратить любого рода преследования, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения с использованием сети Интернет, почтовой перепиской, любого рода подарки и иное2. Таким образом, установленный правовой механизм защиты граждан, подвергающихся преследованию со стороны других лиц, начал свое действие.
В декабре 2023 года в восьмом созыве Государственной Думы Российской Федерации проходило обсуждение законопроекта, направленного на борьбу с буллингом и профилактику травли в российских школах. В частности, депутаты предложили внести изменения в федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнив его определением «травля — это агрессивное преследование, систематические издевательства, унижения, запугивания, психологическое давление, психологическое и физическое насилие», а также наряду с ним включить термины «жертва травли», «участник травли», «организатор травли» и «наблюдатель травли»3. Однако данный законопроект не был принят Государственной Думой Российской Федерации.
Меры ответственности за некоторые формы «кибербуллинга» предусмотрены и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). Согласно статье 5.61. КоАП РФ (внесенного Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 513-ФЗ) за «Оскорбление», совершенного публично с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, предусмотрена административная ответственность.
Уголовное законодательство России включает в себя ряд составов преступлений, которые могут применяться к некоторым общественно опасным формам преследования личности с использованием ИТС. К данным деяниям можно отнести: ст. 110, 119, 128.1, 133, 137, 138, 148 УК РФ, ч. 2 ст. 282, ст. 298.1, 319 УК РФ.
Полагаем, что действующее законодательство Российской Федерации не в полной мере отвечает реальной криминальной ситуации и обеспечивает надлежащую охрану общественных отношений от «кибербуллинга», в связи с чем, возникают трудности при выработке системного подхода в борьбе с данным общественно опасным явлением.
Указанное связано с тем, что присутствует неоднозначность правовой характеристики «кибербуллинга», появились новые общественно опасные формы преследования личности с использованием ИТС, отсутствует норма, прямо запрещающая «кибербуллинг» и ограничивающая нарушителей от дальнейших систематических навязчивых противоправных действий.
В теории уголовного права России научные статьи по проблеме преследования личности с использованием ИТС появились сравнительно недавно. Среди российских ученых к проблеме возникновения и распространения «кибербуллинга» обращались И. С. Осипов, Л. А. Найденов, У. У. Парфентьев, С. И. Анохин, Д. Е. Щипанов, в работах которых предложено его понятие, раскрыта сущность и определено влияние на современное общество. При этом исследователи до сих пор не пришли к единому мнению относительно определения интернет-трав-ли, в связи с чем возникают трудности при ее классификации и правовой оценке.
Учеными-юристами были предложены следующие варианты криминализации общественно опасных форм преследования личности с использованием ИТС:
-
1) внесение квалифицирующего признака «с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети „Интернет“» в ч. 2 ст. 137 УК РФ и ч. 2 ст. 119 УК РФ (Д. К. Амирова и Ю. В. Куницына) [1, с. 16];
-
2) введение ст. 130.1 УК РФ «Публичное оскорбление» с оставлением содержания декриминализованной статьи 130 УК РФ «Оскорбление» с отсылкой на публичный характер выражения оскорблений, а именно с использованием ИТС (Т. Ю. Зуева) [2, с. 715];
-
3) включение в УК РФ ст. 128.2 «Травля с использованием информационнотелекоммуникационных сетей» (Ю. А. Чич) [7, с. 163];
-
4) внесение дополнения в УК РФ в виде ст. 119.1 «Преследование» и ст. 119.2 «Угроза» в случае если травля в сети Интернет осуществляется путем угроз (Л. Н. Клочен-ко) [3, с. 67].
Принимая во внимание то, что общественно опасные формы «кибербуллинга»
включают в себя противоправные действия, направленные на свободу, честь и достоинство личности, мы считаем, что вышерассмотренные позиции ученых не в полной мере отвечают данному требованию и обеспечивают надлежащую охрану общественных отношений от «кибербуллинга». При этом «кибербуллинг» в его общественноопасных формах чаще всего выражается в угрозах причинения вреда личности с использованием ИТС, что в данных позициях в полном объеме не отражено. Из сказанного становится очевидным, что в целях унификации уголовного законодательства, четкого конструирования составов преступлений и соответствия норм юридической технике целесообразно ввести самостоятельную норму, предусматривающую уголовную ответственность за преступные формы преследования личности с использованием ИТС.
Необходимость введения данной нормы в УК РФ, кроме того подтверждается:
-
— данными анкетирования 190 респон дентов (сотрудников органов внутренних дел РФ) . Так, 77,20 % участников опроса, считают, что необходимо криминализовать «кибербулинг» и предусмотреть для нее отдельную статью. При этом 49 % опрошенных допускают необходимость уголовной ответственности за «Угрозу причинения вреда» в качестве самостоятельного состава преступления в УК РФ;
-
— увеличением количества детских са моубийств и формированием новейших де структивных сообществ в соцсетях, притя гиванием единомышленников, усиливающих общественную вражду и травлю . Так, в социальных сетях появились сообщества, кураторы которых предлагали её участникам играть в суицидальные квесты «50 дней до моего самоубийства», «Синий кит», «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4:20» и многие другие. По официальным данным совершили самоубийство более 720 подростков. Также, в последнее время в просторах сети Интернет появилась новая игра «Ава-тария», в которую играют дети примерно 9–10 лет. Преступники посредством данной игры под видом ребенка аналогичного возраста вступают в дружбу с данными игроками. Далее агрессор взамен золотых
звездочек предлагает отправить фотографии интимного характера. Большинство детей, не видя преступный характер другого игрока, отправляют фотографии. После чего преступник угрожает детям тем, что расскажет его родителям и друзьям, требуя дальнейшего обмена фотографиями. Дети, зачастую, не выдерживая давления и стыд, совершают самоубийство. Жертвами данного преступления стали порядка 67 человек. Аналогичных схем и игр в пространстве очень много («sims», «dota», «mashinmasters», «я убила папу» и др.). Опрос 20 судмедэкспертов города Москвы показал, что по мнению 46 % опрошенных специалистов, доказать доведение жертвы до самоубийства вследствие его преследования в сети Интернет крайне сложно ввиду того, что не выработаны четкие критерии определения реальности угроз. Большинство респондентов (54 %) считают, что необходимо корректное определение «буллинга» в цифровой среде, проработать юридические и психологические критерии анализа экспертной оценки психофизических особенностей жертвы, в том числе и критерии реальности угрозы дистанционного насилия;
-
— отсутствием практики возбуждения уголовных дел по фактам преследования лич ности с использованием ИТС . Так, в территориальные органы внутренних дел неоднократно подаются сообщения о совершении травли в сети Интернет, однако ввиду отсутствия в уголовном законодательстве норм, регулирующих данное явление, и практики ее применения по данным фактам принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия признаков состава преступления. При этом нашумевших случаев запугивания личности с использованием ИТС зафиксировано весьма много. К примеру, вернувшись из армии, 20-летний Владимир Г. узнал, что его девушка беременна от другого человека и отказался принимать чужого для него ребенка. Бывшая девушка Г., оскорбившись, распространила в сети Интернет ложные сведения о нетрадиционной ориентации Г., после чего последний обратился в органы внутренних дел. Однако по результатам проверки в отношении девушки было вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ1, вследствие чего Г. покончил с собой, не сумев перенести травлю.
Заключение и вывод
В действующем российском законодательстве имеются нормы, косвенно регулирующие проблему преследования личности в сети Интернет. В зависимости от характера совершенных действий и правовых признаков, виновное лицо могут привлечь к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. При этом практика привлечения к ответственности за преследование личности с использованием ИТС является довольно разрозненной, поскольку отечественное законодательство не в полной мере отвечает реальной криминальной ситуации и не обеспечивает надлежащую охрану общественных отношений от «кибербуллинга».
Учитывая зарубежные опыт, данные анкетирования, экспертного опроса, отсутствие практики возбуждения уголовных дел по фактам интернет-травли, полагаем, целесообразным дополнить главу 17 УК РФ статьей 128.2 «Угроза причинения вреда» в следующей формулировке: «1. Угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения позорящих сведений, а равно причинения иного существенного вреда правам или законным интересам потерпевшего или его близких, наказывается… 2. Те же деяния, осуществляемые систематически с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе с помощью сети Интернет), наказываются… 3. Те же деяния, повлекшие самоубийство или покушение на убийство, при отсутствии признаков склонения и доведения до самоубийства, наказываются…».
Криминализация общественно опасных форм преследования личности, совершаемые посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, позволит выстроить адекватную систему предупреждения данных деяний.
Список литературы Криминализация общественно опасных форм преследования личности, совершаемых посредством угроз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
- Амирова Д. К., Куницына Ю. В. К вопросу об установлении уголовной ответственности за кибербуллинг // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2022. № 1 (13). С. 12-16. EDN: ANZXFR
- Зуева Т. Ю. Кибербуллинг: уголовно-правовой аспект // Традиции и новации в системе современного российского права: сборник тезисов XVII международной научно-практической конференции молодых ученых, Москва, 06-07 апреля 2018 года. Москва, 2018. C. 714-716. EDN: YMTHLV
- Клоченко Л. Н. Преследование (стокинг) как вид психического насилия // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 4 (21). С. 57-62. EDN: UKUNZV
- Мосечкин И. Н. Дистанционное психическое насилие: перспективы совершенствования уголовного законодательства // Психология и право. 2021. Т. 11, № 4. С. 64-76. DOI: 10.17759/psylaw.2021110405 EDN: YCAERU
- Olweus D. Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell Publishers, 1994. 135 p.
- Солдатова Г. У., Ярмина А. Н. Кибербуллинг: особенности, ролевая структура, детско-родительские отношения и стратегии совладания // Национальный психологический журнал. 2019. № 3 (35). С. 17-31. DOI: 10.11621/npj.2019.0303 EDN: RGLIIO
- Чич Ю. А. Уголовно-правовая характеристика кибербуллинга - травли с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Теория и практика общественного развития. 2023. № 5 (181). С. 160-164. DOI: 10.24158/tipor.2023.5.24 EDN: TVSAAC