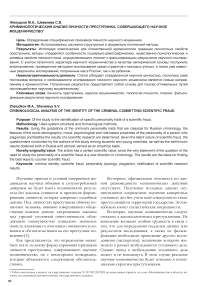Криминологический анализ личности преступника, совершающего научное мошенничество
Автор: Желудков Михаил Александрович, Шевелева Светлана Викторовна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (41), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: Определение специфических признаков личности научного мошенника. Методология: Использовались системно-структурный и формально-логический методы. Результаты: Используя классические для отечественной криминологии градации личностных свойств преступника, авторы определяют особенности социально-демографических, нравственно-психологических и ролевых свойств личности лица, осуществляющего плагиат и фальсификацию результатов научного исследования. С учетом латентного характера научного мошенничества в качестве эмпирической основы послужило анкетирование, проведенное авторами исследования среди студентов и молодых ученых, а также уже известные результаты исследований, полученные как в России, так и за рубежом. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку сама постановка вопроса о необходимости исследования личности научного мошенника является новым направлением в криминологии. Полученные результаты представляют собой основу для поиска оптимальных путей противодействия научному мошенничеству.
Личность преступника, научное мошенничество, типология личности, плагиат, фальсификация результатов научного исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/140244663
IDR: 140244663
Текст научной статьи Криминологический анализ личности преступника, совершающего научное мошенничество
Изучение причин и условий совершения индивидами научных обманов и злоупотреблений доверием не будет иметь полноценного результата без анализа сущности и процессов формирования личности, которая совершает подобные деяния. Под личностью преступника обычно понимают человека, виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности, обладающего совокупностью социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на его преступное поведение [1].
Как представляется, это определение может быть взято за основу формулирования признаков личности преступника, совершающего научное мошенничество, но с некоторыми оговорками, которые объясняются следующими обстоятельствами.
Во-первых, официальная отчетность по данной разновидности мошеннических действий отсутствует. Получение исходных данных осуществляется посредством изучения конкретных уголовных дел без учета всей совокупности таких преступлений на территории государства. Это неизбежно влечет статистические погрешности.
Во-вторых, научные мошенничества следует относить к высоколатентным преступлениям. Их выявление вызывает особые трудности в связи с тем, что для определения подделки данных или результатов исследования, а также их фальсификации необходимо проведение другого исследования (экспертизы), назначение которого возможно в рамках возбужденного уголовного дела. Однако повод к возбуждению уголовного дела может и не возникнуть. В этом случае реальное научное мошенничество будет отнесено к потенциально скрытым преступлениям.
В-третьих, возможности по возбуждению уголовного дела по плагиату ограничены крупным ущербом автору или правообладателю, что существенно влияет на количество выявленных преступлений в этой области. Например, плагиат в диссертационном исследовании или научной статье не является преступным деянием, так как отсутствуют явные предпосылки получения доказательств причиненного ущерба – криминообразующего признака составов преступлений, предусмотренных ст. 146–147 УК РФ.
Таким образом, соглашаясь с тем, что «личность преступника» относится к лицам, которые признаны виновными в совершении преступления вступившим в законную силу приговором суда, мы не можем не учитывать вышеуказанные обстоятельства при характеристике личности научного мошенника. С научных позиций и ввиду необходимости разработки особых профилактических мер в сфере научного мошенничества можно и необходимо говорить о латентной личности преступника – научного мошенника. Подобные латентные научные мошенничества не зарегистрированы в виде преступных деяний, но они имеют отражение в публикациях в информационной среде и находят выражение в некоторых базах данных, которые осуществляют проверку оригинальности научных работ (например, Диссернет). Изучение данной категории лиц, наряду с лицами, которые уже совершили преступление, позволяет более полноценно понять причины и условия совершения этих деяний и более комплексно построить системную основу профилактики данной разновидности преступлений.
В 2019 году Центром институционального анализа науки и образования при Европейском университете в Санкт-Петербурге было опубликовано исследование под названием «Некорректные заимствования в российских докторских диссертациях: сколько, где и у кого?» [2].
В данном исследовании были проанализированы «2468 докторских диссертаций, защищенных в 2006–2015 годах (8,8 % от генеральной совокупности) с помощью скриптов программы «Антиплагиат». Средняя доля обнаруженных заимствований составила 19,1 %, медианная – 13,9 %. Только четверть диссертаций имеет долю заимствований менее 7 % текста, при этом, однако, лишь 6,1 % авторов заимствовали более 50 %» [2].
Данные цифры указывают на признаки научного мошенничества, но говорить о личности преступника в его полном смысле с учетом приговора мы не можем. В данном аспекте мы должны применять содержание понятия латентного научного мошенника, которое должно подвергаться изучению в целях выявления факторов и качественных характеристик, приведших данную личность к обману или злоупотреблению доверием в научной сфере.
При изучении личности как реального, так и латентного научного мошенника существует проблема в выявлении соотношения социальных и биологических факторов, оказавших влияние на его негативное поведение. Если в других видах корыстных преступлений социальное явно превалирует над биологическим, то в научном мошенничестве не все так однозначно. В то же время полученные сведения о биологических особенностях отдельных личностей не могут стать полноценными репрезентативными данными, так как при исследовании мы оперируем лишь единичными случаями зафиксированных преступлений данного вида. В научной сфере не работают душевнобольные люди, и только поэтому уже можно утверждать, что в научном мошенничестве нет биологических факторов, которые можно считать непосредственной причиной совершения конкретного преступления. Однако никто не будет спорить, что во многом именно биологические факторы: одаренность, волевые качества, уровень умственного развития, высокий интеллект, жизненный опыт, склонность к анализу, эмоциональность и другие – создали предпосылки для становления личности ученого, который уже под влиянием социальной среды совершил научное мошенничество. Подобные преступники не только не снижают свой уровень умственного развития, но и постоянно повышают его. Их эмоциональность проявляется при уравновешенности нервных процессов при совершении научного мошенничества и после его выявления. Выделим качества самоуверенности и безнаказанности при совершении рассматриваемых деяний. Важно здесь усвоить также то, что среди лиц, которые совершают научное мошенничество, нами не выявлены имеющие такие отклонения от психической нормы, как слабоумие, психопатические заболевания, алкогольные и наркотические зависимости. Сложно здесь рассуждать о генетически обусловленных факторах совершения преступлений в этой сфере, так как уже ранее указывалось, что большинство деяний имеют латентный характер, и исследователи не могут проводить полноценное изучение хромосомных или иных аномалий подобной личности.
В криминологической характеристике личности преступника обычно выделяют: пол, возраст, социальное положение в обществе и форму занятия, образование, семью, место проживания, материальное положение. В данных о соотношении мужского и женского пола в структуре научных мошенников присутствуют различные точки зрения. Например, некоторые исследования показывают, что мужчины более склонны к академической нечестности (F.C. Fang, J.W. Bennett, A. Casadevall) [3]. Причем в некоторых областях исследований подобная гендерная нечестность в науке выделена в качестве решающего фактора повышения по карьерной лестнице.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале mBio, Отделом этики научных исследований (ORI) США было зарегистрировано 228 случаев нарушений в записях. В миссию ORI входит выявление сфабрикованных данных и плагиата. В мае 2012 года было зарегистрировано по меньшей мере 2047 биомедицинских открытий, которые содержали ошибки или были вообще сфабрикованы. Оказалось, что мужчины чаще замешаны в научном мошенничестве, чем женщины. Разрыв был заметен на каждой ступеньке карьерной лестницы. Среди научных сотрудников 43 % мужчин были задействованы в научном мошенничестве. Среди студентов число нарушителей мужского пола составило 58 %. Это число выросло до 69 % среди аспирантов и 88 % преподавателей. Например, среди 72 преподавателей, которые совершили мошенничество, было только 9 женщин. Учёные, проводившие исследование, говорят, что на данный момент не совсем понятно, почему существует такой гендерный разрыв. Скорее всего, что мужчинам больше свойственно рисковать, чем женщинам [4].
Ученые, изучающие некорректные заимствования в российских докторских диссертациях, опираясь на зарубежные исследования, приходят к выводу об отсутствии значимых различий нарушителей академических норм по гендерному признаку [2].
По нашим исследовательским данным, в научном мошенничестве присутствует устойчивое равновесие без преобладания доли мужчин. Подобный фактор обусловливается тем, что в науке достаточно велика доля лиц женского пола и нет особых поведенческих стереотипов относительно того, кто должен заниматься определенными исследованиями. Некоторая гендерная зависимость прослеживается при определенных видовых исследованиях. Женщин, совершающих научный плагиат, достаточно много в гуманитарной, медицинской, экономических сферах. Мужчины преобладают в техническом плагиате или фальсификации сведений при выполнении научных заданий.
Возрастная характеристика научного мошенника лежит в основе его криминальной активности с учетом специфики выполняемой научной работы. Впервые научное мошенничество совершается в студенческой среде. Его мы относим к первичному латентному мошенничеству, включающему возрастную категорию лиц от 18 до 24 лет. В этом возрасте студенты впервые выполняют научные работы, которые имеют общественную, а иногда и научную значимость. Плагиат в конкурсной или выпускной работе, манипулирование научными сведениями при выполнении студенческих грантов, фабрикация данных в научной статье – впервые студенты совершают эти действия именно в указанном возрасте. Как показывают международные исследования, большинство студентов в мире списывали хотя бы раз за время учебы [5, 6, 7].
Возрастная группа от 25 до 29 лет характеризуется уже сформированной позицией с точки зрения совершения научного мошенничества. В этой возрастной категории находятся как аспиранты, так и уже сформировавшиеся молодые ученые. Подложные данные вносятся в диссертации, научные проекты и гранты.
Возрастная категория от 30 до 70 лет включает ученых и практиков, которые получают возможность осваивать бюджетные денежные средства, выделяемые на различные научные проекты.
Социальное положение научных мошенников зависит от их вида занятия и выполняемых научных функций. Меньше 1 % научных мошенников не имеет работы или места научной деятельности. Подобная категория лиц находится или на пенсионном обеспечении, или в поиске места будущей работы. Более 60 % данных лиц занимаются преподавательской деятельностью, около 10 % являются руководителями определенных научных коллективов, около 30 % являются работниками и служащими различных государственных, муниципальных органов и служб, коммерческих и иных форм предприятий. Типичными функциональными свойствами для данных лиц является степень широкой вовлеченности в деятельность научного и производственного коллектива. Однако подобная вовлеченность направлена лишь на поддержание своего стабильного положения в данной общественной микрогруппе.
В настоящее время большинство исследований академической нечестности сконцентрировано на нечестности студентов [8, 9, 10], восприятии ими этических кодексов [11, 12], а также кодексов как таковых [13, 14, 15].
Именно студенты чаще всего становятся объектом исследования в работах по изучению академической нечестности. Количество работ, посвященных эмпирическому изучению распространенности нечестности среди ученых или аспирантов, – на порядок меньше [16].
Однако фабрикация данных, подлог и плагиат распространены не только в среде студентов, о чем свидетельствуют регулярные случаи отзыва статей редакциями журналов. То, что студенты оказываются предпочитаемым объектом исследования, связано, вероятно, с тем, что состоявшиеся исследователи (имеющие степень, публикации и т. д.) обычно вызывают меньше подозрений. Чаще всего в исследованиях академической нечестности применяются опросы; организовать представительный опрос студентов значительно легче, чем «взрослых» ученых. Кроме того, есть подозрение, что опрос вообще плохо подходит для изучения девиантного поведения состоявшихся ученых, так как они несут большие репутационные риски и потому менее склонны сообщать о сомнительном поведении [2].
В рамках нашего исследования также был проведен опрос 50 студентов 4-го курса по различным видам специальностей. Опрос был анонимный, поэтому все 100 % студентов признались в том, что использовали чужие тексты при написании курсовых и лабораторных работ. Опрос уже сформировавшихся ученых невозможно провести по указанной в данном исследовании причине.
По наличию или отсутствию семейного положения нельзя сделать однозначные выводы о склонности лица к научному мошенничеству. В свою очередь именно молодые, чаще семейные ученые более склонны совершать обман в науке. В данном аспекте играет роль, кем является данное лицо в семейной иерархии. Молодые ученые, которые не являются главами семьи, гораздо чаще совершают научный обман, так как рационально полагают, что их семья от разоблачения данного обмана не потеряет материально или репутационно. Семейное положение научных мошенников в 95 % случаев выявленных преступлений имеет полноценное наполнение с наличием детей.
Местом проживания научных мошенников является городская среда на уровне субъектов территориального образования. Также отмечаем, что по результатам отдельных исследований территориальная зависимость научного мошенничества от места проживания не прослеживается.
По большей части, статистически значимых различий между ними нет. Исключение - значимая разница между Центральным округом про- тив Приволжского и Южного (в последних медианное количество некорректных заимствований больше на 4 % и 5,6 % соответственно, значимо на уровне <0,05). Разница имеется между Северо-Западным и Северо-Кавказским округами (в последнем количество некорректных заимствований выше на 6,2 %, значимо на уровне <0,05), Приволжским и Южным (в обоих количество некорректных заимствований выше на 5,1 % и 6,7 % соответственно, значимо на уровне <0,01). В то же время явных лидеров по количеству некорректных заимствований мы выделить не можем, стоит отметить, что Южный, Северо-Кавказский и Приволжский округи демонстрируют высокие медианные значения по сравнению с остальными округами [2].
Образовательно-культурная среда личности научного мошенника свидетельствует о его высоком интеллектуальном и образовательном уровне. Подобный уровень у данных лиц выше, чем у граждан той же возрастной группы, но занимающихся другой формой социальной деятельности. Их уровень образования повышается в зависимости от возрастных групп, наличия ученой степени, ученого звания и различных почетных наград и званий.
Культурно-досуговая среда характеризуется постоянным поиском целевых интеллектуальных форм развития. Культура по отношению к лицу, которое совершило научное мошенничество, – это отдельный феномен духовно-преобразующей деятельности. Ученый или сотрудник, выполняющий научные задания, воспитан на культурных предписаниях той общественной группы, где он воспринимается как личность. Однако не всегда эти предписания общества становятся основой его поведения. В отдельных случаях они могут быть отвергнуты или приняты не на том уровне поведения, которое общество ожидает от личности. Также считаем, что наличие диплома или ученой степени только по формальным критериям делают человека образованным. Образование, а именно знания в определенных областях науки, конкретизируются в социальном отношении. Через него преломляется мотивация жизнедеятельности личности в виде корыстного или иного преступного мотива действия. Выбор или отказ от таких мотивов зависит от многих обстоятельств, где не последнюю роль играет воспитание личности.
Существует мнение, что выбор культурных предписаний зависит и от страны, где ученый проявляет свои способности. Страны также различаются исторически сложившейся академи- ческой культурой, более или менее способствующей взаимному контролю. Если коллеги не критикуют и не проверяют работу друг друга, то шансы публикации подлога возрастают. Некоторые исследователи отмечают, что академическая нечестность более распространена в развивающихся странах, принявших иерархическую кафедральную немецкую модель в противовес более коллегиальным системам англо-американских департаментов [2].
Материальное положение данных лиц высокое, но постоянно требует своего повышения по причине поддержания социального статуса в обществе.
Итак, научного мошенника как преступника можно именовать с определенной долей условности, исходя из необходимости выявления характерных черт лиц, занимающихся подлогом и фальсификацией результатов своих научных исследований. Учитывая, что научные мошенничества представляют собой латентную группу преступлений, при изучении личности как реального, так и латентного научного мошенника существует проблема в выявлении соотношения социальных и биологических факторов, оказавших влияние на его негативное поведение. Тем не менее, к биологическим факторам следует отнести высокий интеллект, склонность к анализу, целеустремленность, самоуверенность. Нами не выявлены лица, страдающие слабоумием, психопатическими заболеваниями, алкогольной или наркотической зависимостью. По гендерному признаку существенных различий не выявлено. Возрастная характеристика определена с учетом социальной роли: студенчество (18–24 года), аспиранты и молодые ученые (25–29 лет), ученые, имеющие звания и степени, а также практики (30–70 лет). Социальное положение: более 60 % данных лиц занимаются преподавательской деятельностью, около 10 % являются руководителями определенных научных коллективов, около 30 % – работниками и служащими различных государственных, муниципальных органов и служб, коммерческих и иных форм предприятий. Семейное положение научных мошенников не оказывает значимого влияния на формирование негативных личностных ориентиров, тем не менее, в 95 % выявленных преступлений имеет место полноценное наполнение с наличием детей. Образовательно-культурная и досуговая среда ориентирована на постоянный поиск целевых интеллектуальных форм развития.
Список литературы Криминологический анализ личности преступника, совершающего научное мошенничество
- Криминология / отв. ред.: В.К. Звирбуль, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. М.: Юрид. лит., 1979. С. 105.
- Макеева А., Цивинская А., Соколов М., Соколо-ва Н., Губа К. Некорректные заимствования в российских докторских диссертациях: сколько, где и у кого? СПб.: ЦИАНО ЕУСПб, 2019. (Серия препринтов ННС-С (5)).
- Fang F.C., Bennett J.W., Casadevall A. Males are overrepresented among life science researchers committing scientific misconduct // MBio. 2013. Vol. 4. № 1.
- Научное мошенничество [Электронный ресурс]. URL: https://infuture.ru/article/7976/.
- McCabe D.L. The influence of situational ethics on cheating among college students // Sociological Inquiry. 1992. Vol. 62, № 3. P. 365-374.
- McCabe D.L., Bowers W.J. Academic dishonesty among males in college: A thirty year perspective // Journal of College Student Development. 1994. Vol. 35. № 1. P. 5-10.
- Stearns S.A. Administrative ramifications of student cheating // Journal of the Association for Communication Administration (JACA). 1997. Vol. 2. P. 133-139.
- Fields M.U. The influence of psychological type, self-esteem, and gender on academic dishonesty of students in higher education // Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. 2004. 64 (3-A). P. 737.
- Ward D.A., Beck W.L. Gender and dishonesty // The Journal of Social Psychology. 1990. Vol. 130. № 3. P. 333-339.
- Macfarlane B., Zhang J., Pun A. Academic integrity: a review of the literature // Studies in Higher Education. 2014. Vol. 39. № 2. P. 339-358.
- Gundersen D.E., Capozzoli E.A., Rajamma R.K. Learned ethical behavior: An academic perspective // Journal of Education for Business. 2008. Vol. 83. № 6. P. 315-324.
- Rezaee Z., Elmore R.C., Szendi J.Z. Ethical behavior in higher educational institutions: The role of the code of conduct // Journal of Business Ethics. 2001. Vol. 30. № 2. P. 171-183.
- Kelley P.C., Agle B.R., DeMott J. Mapping our progress: Identifying, categorizing and comparing universities' ethics infrastructures // Journal of Academic Ethics. 2005. Vol. 3. № 2-4. P. 205-229.
- Lind A.R. Evaluating research misconduct policies at major research universities: A pilot study // Accountability in Research. 2005. Vol. 12. № 3. P. 241-262.
- Schoenherr J., Williams-Jones B. (2011) Research integrity/misconduct policies of Canadian universities // Canadian Journal of Higher Education. Vol. 41. № 1. P. 1-17.
- Wajda-Johnston V.A., Handal P.J., Brawer P.A., Fabricatore A.N. Academic dishonesty at the graduate level // Ethics and Behavior. 2001. Vol. 11. № 3. P. 287-305.