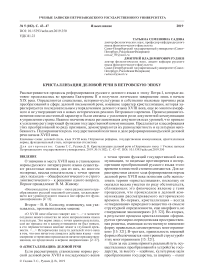Кристаллизация деловой речи в петровскую эпоху
Автор: Садова Т.С., Руднев Д.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 5 (182), 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются процессы реформирования русского делового языка в эпоху Петра I, которые активно продолжались во времена Екатерины II и получили логическое завершение лишь в начале XIX века. Определяются социальные, историко-культурные и собственно языковые причины ряда преобразований в сфере деловой письменной речи, имевшие характер кристаллизации, которая характеризуется последовательным упорядочением делового языка XVIII века, еще во многом аморфного и не утвердившегося в новых исторических реалиях Петровского времени. Происходившие изменения имели системный характер и были связаны с усилением роли документной коммуникации в управлении страны. Важное значение имела регламентация документов всех уровней, что привело к усилению регулирующей функции государственной коммуникации. Предлагается классификация этих преобразований по ряду признаков, демонстрируются их разноаспектность и культурная неизбежность. Подчеркивается роль государственной политики в деле реформирования русской деловой речи начала XVIII века.
Деловой стиль, язык xviii века, петровские реформы, государственная коммуникация, кристаллизация нормы, функциональный стиль, историческая стилистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147226478
IDR: 147226478 | УДК: 81.23 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.350
Текст научной статьи Кристаллизация деловой речи в петровскую эпоху
О значении и месте XVIII века в становлении нормы русского литературного языка существуют различные мнения; два из них, во многом полярные, весьма показательны с точки зрения двух подходов – общефилологического и строго лингвистического – к решению одного вопроса. Первое принадлежит В. М. Живову:
«Восемнадцатое столетие – эпоха радикального преобразования русской языковой ситуации, захватывающего все уровни русского языка и все сферы его функционирования» [4: 13].
Второе – В. В. Колесову, имеющему, как указывалось, противоположное мнение:
«О XVIII веке обычно говорят как <…> о моменте создания нового качества по всем направлениям языка и культуры. Это верно лишь с точки зрения результата, сам же процесс ни в каком отношении не был новым, а его первоисточники вообще лежат в глубокой древности. <…> Историческая заслуга деятелей этого века в том, что они ничего не ломали в действии языка – они смиренно и терпеливо продолжали начатое предшественниками, но продолжали в верном направлении» [2: 27].
О «КРИСТАЛЛИЗАЦИИ» ДЕЛОВОЙ РЕЧИ
Если рассматривать становление нормы русской деловой речи XVIII и последующего веков
с точки зрения функций государственной коммуникации, то видимые противоречия в интерпретации преобразований русского языка этого времени в известной степени снимаются. Для характеристики самого хода формирования нормы деловой речи XVIII века позволим себе использовать термин «кристаллизация», поскольку он оказался весьма уместен по ряду обстоятельств, сближающих это физическое явление с теми процессами, что происходили в деловой коммуникации рассматриваемого исторического времени. Во-первых, кристаллизация – всегда «отвердевание» природного вещества «в смысле структурной определенности, еще аморфного, но отвердевание закономерное» [15: 321]. Во-вторых, в результате процесса кристаллизации «формируется трехмерно-периодическая пространственная решетка, имеющая естественную внешнюю форму правильных симметричных многогранников» [15: 321]. В-третьих, правильность внешней формы обеспечивается «внутренней структурой» этих многогранников [15: 321].
Если за ось длины принять реальный путь осуществленных преобразований в устройстве государства, за высоту – идейные, культурные цели преобразования государства, за ширину – охват и масштабность социальных сфер, то возникает устойчивая метафора произошедшего: норма языка, обслуживающего все эти государственные преобразования, есть причудливый кристалл с разными по длине, но всегда закономерными наростами в трех геометрических измерениях. Причем под кристаллизацией нормы деловой письменной речи следует понимать как установление правил составления документа, так и формирование собственно языковых стандартов его наполнения.
ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Обратимся к характеристике делового языка с точки зрения отражения в нем идей и задач государственной коммуникации. Деловая речь, как известно, является кодом, языком государственной коммуникации, под которой, как правило, понимается один из
«аспектов коммуникативного взаимодействия власти и общества, направленный на формирование постоянного конструктивного диалога с целью обеспечения легитимности существующего порядка и придания ему стабильности» [1: 43].
К функциям государственной коммуникации, а следовательно, и делового языка традиционно относят следующие: консервативную, координирующую, интегрирующую, мобилизационную, социализирующую. Это наиболее полный набор функций государственной коммуникации, своеобразная «шкала высоты» кристаллизирующегося объекта [12: 199]. Разумеется, все эти функции в различные периоды существования государства представлены неравномерно. В Петровскую эпоху деловая речь связана с реализацией прежде всего координирующей функции, которая «призвана была обеспечивать координацию властных воздействий субъекта власти» [1: 43], в данном случае – самодержца. Однако создание в 1711 году Правительствующего Сената как высшего органа государственной власти и законодательства в известной степени разделяло ответственность за принятие решений, и стало необходимо учесть в государственном управленческом документе мнение и даже одобрение правительства и общества, по крайней мере дворянского. Эту функцию определяют как мобилизационную. Деловая речь стала выполнять и социализирующую функцию, которую определяют как «усвоение в процессе информационного обмена социально-политических норм, ценностей и традиций государства» [1: 43].
Важно иметь в виду и то, что деловая коммуникация представляет собой разновидность диалога (главным образом письменного), в котором реплике-высказыванию живой речи соответствует документ, воплощающий тот или иной деловой жанр [8: 27].
Очевидно, что наиболее важной для государственной коммуникации является вертикальная коммуникация – то есть сверху вниз, которая тотчас становится источником для обратной коммуникации и неизбежно задает образцы деловой речи. Любопытное свойство деловой речи этого времени – причудливое смешение разговорных и книжных (прежде всего лексических) элементов – позволяет допустить следующее предположение: исходная разговорная основа деловой речи, сложившаяся на основе устного судопроизводства, подверглась славянизации под влиянием распорядительных документов.
ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА
Примечательно, что само слово «документ» вошло в оборот в Петровскую эпоху от лат. documentum, что первоначально означало ‘доказательство, свидетельство’ [14: 177]. В это время документами стали называть деловые бумаги, имевшие только правовую значимость. Очевидно, что в результате проводимых реформ Петру I пришлось решать целый ряд задач по эффективному управлению государством. Царь был вынужден менять принципы государственной коммуникации и, как следствие, средство ее реализации – деловой язык.
Важнейшим документом Петровской эпохи, оказавшим влияние на деловую речь как средство осуществления государственного управления, стал Генеральный регламент (1720 год). Он не только установил управленческие нормы и правила, но и делал попытку научить новым способам и приемам работы, и прежде всего потому, что «работа с документами отождествлялась с самой управленческой деятельностью» [3: 255]. Впервые в истории России документ стал абсолютно изоморфен реальному делу. В Регламенте устанавливалось требование обязательного документирования организационно-распорядительной управленческой деятельности: указы в Сенат и коллегию, а также из Сената в коллегии должны были отправляться в письменной форме. Регламент ускорил процесс формализации и кристаллизации структуры деловых текстов. Во-первых, происходит оформление реквизитной части документа, отражающей процесс его движения в документообороте. Во-вторых, в документе стали четко выделяться такие реквизиты, как адресат, адресант, самоназвание документа, входящий/исходящий номер, дата и пр. Эти реквизиты не только отделялись графически один от другого, но и получили закрепленный порядок в документе. Так, в распорядительных документах (сверху вниз) этот порядок имел следующий вид: самоназвание документа – название учреждения, делающего распоряжение, – адресат документа. В отчетно-исполнительных документах (снизу вверх) он имел противоположный порядок: адресат документа – имя подотчетного лица или название учреждения – самоназвание документа. Такой порядок реквизитов не только «отражал вертикаль делопроизводственной процедуры того времени, связанной с соблюдением служебной иерархии» [11: 132], но и указывал на их четкую взаимозависимость.
Оформление реквизитной части запустило и процесс формализации содержания деловых документов. Во-первых, это было обусловлено тем, что Регламент резко увеличил удельный вес документации самообслуживания. Появились «“генеральные формуляры (образцовые письма)”, по которым составлялся ряд новых разновидностей документов» [7: 52]. Во-вторых, обнаружилась потребность в распространении законодательного регулирования не только на организацию документооборота, но и на само документообразование, на процесс подготовки документов [7: 51–52].
Необходимость регламентации формы и языка документов стала ощущаться в Петровскую эпоху в связи с резким увеличением их числа, так как документирование охватило все сферы административного управления. По данным различных перечней документных жанров, их насчитывалось от тридцати до сорока. Этот «кристаллический нарост» явно опережал другие.
Итак, целый ряд преобразований в деловой речи Петровской эпохи был обусловлен усилением координирующей функции государственной коммуникации, которая дает причудливые, но вполне оправданные формы в процессе становления нормы деловой речи. Однако некоторые изменения не могут быть объяснены с этих позиций.
СЛАВЯНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ
Среди ярких особенностей деловой речи этого времени отмечают ее славянизацию. Славянизмы становятся стилеобразующей чертой нового канцелярского стиля, среди них главное место занимали указательные местоимения и служебные слова оный, сей, понеже, егда, дабы, яко и др., анафорические прилагательные преждепоказан-ный, преждеименованный, вышереченный и др., наречия втуне, купно, наипаче, откуде, паки, тако, тамо и др. [10: 31].
А. П. Майоров утверждает, что славянизация деловой речи противопоставила деловой язык Петровской эпохи приказному языку предшествующих эпох наряду с целым рядом других явлений – заменой столбцовой формы письма тетрадной, кардинальным изменением системы жанров и формуляров документов, постепенной заменой скорописного письма курсивным, введением в оборот гербовой бумаги, требованием использовать в указах новую терминологию [10: 30].
Думается, что введение книжных элементов в распорядительные документы объяснялось не только желанием противопоставить новую систему управления старой, причем и на языковом уровне, как об этом часто пишут. Но и тем, что власти поняли необходимость разъяснять проводимые реформы и убеждать в их правильности, то есть использовать государственную коммуникацию для осуществления упомянутой мобилизационной функции. Необходимость убеждать подчиненных в правильности принимаемых решений требовала привлечения языковых средств с воздействующим потенциалом, а таковым, без сомнения, обладали книжные славянизмы. Так, исследователи давно обратили внимание на особенность указов Петра I, многие из которых имели
«своеобразную преамбулу, содержащую обоснование злободневности распоряжения. Это нововведение Петра I оформляется с помощью сложного предложения с придаточным причины, вынесенным в препозицию. <…> Практически любой его указ начинается со слова понеже…» [9: 115].
МЕТАФОРА ГОСУДАРСТВА
Следует заметить и еще одно важное обстоятельство: кристаллизация деловой речи в Петровскую эпоху была вызвана изменениями представлений о сущности государства. Петр I склонялся к идеям Лейбница о регулярном (полицейском) государстве как наилучшей форме правления: известный математик в своих письмах русскому царю сравнивал идеальное государство с часами. В допетровской Руси государство представлялось в виде феодального дома, поэтому документы, подаваемые на имя государя или владетельного человека, «имели характер интимизации отношений между участниками речевого общения» [5: 75]. Запрет в Петровскую эпоху подавать челобитные лично государю и употреблять полуимена, исчезновение из документов формы сослагательного наклонения в значении побуждения были яркими индикаторами смены представления о государстве: метафору государства – феодального дома сменяла метафора государства как механизма. Характерно, что в документах первой четверти XVIII века происходит постепенное вытеснение личных форм глагола отглагольными прилагательными. Отмечается широкое распространение книжных по происхождению форм «по + Д. п.» (по указу, по экстракту, по благословению), «по + Пр. п.» (по скончании, по получении) и «под + Тв. п.» (под наказанием, под опасением, под штрафом) [6: 63]. Целый ряд изменений свидетельствовал о постепенной замене личной формы изложения безличной, что было прямым следствием смены представлений о сущности государства как четком и хорошо отлаженном механизме. Показательной в этом отношении является, например, замена формулы, актуализирующей степень служебной ответственности за выполнение особо важных поручений. Так, в памяти 1699 года она звучит так: «вправду по святой непорочной евангельской заповеди господина еже ей-ей», а в 1725 году – «как о том Ея императорского величества государыни императрицы указ и печатной синодальной регламент повелевает» [13: 73]. С. В. Русанова заключает в связи с этим:
«Новая <…> административно-юридическая система утверждает в качестве главного регулятивного принципа в правовых общественных отношениях не силу нравственного самоконтроля, а силу законодательной системы, утвержденных императором регламентов» [13: 74].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С описательной, структурно-языковой точки зрения преобразования в деловом языке Петровской эпохи кажутся, во-первых, хаотичными, во-вторых, относящимися главным образом к лексическим заменам и способам оформления документов, а следовательно, незначительными. Однако это ощущение обманчиво, если попытаться оценить изменения с функциональной точки зрения: происходившие изменения имели системный характер и были связаны с усилением роли документного общения и его последовательной регламентацией, то есть упрочением регулирующей функции государственной коммуникации.
Примечателен и тот факт, что трансформация деловой речи происходила в результате активного использования печатных средств оформления документов: стремясь избежать злоупотреблений, власти активно использовали изданные типографским способом указы и законы. Как следствие, старые, рукописные принципы работы с деловым документом трансформировались под влиянием принципов обработки печатного текста. К концу XVIII – началу XIX века рукописные почерки, орфографические и пунктуационные особенности делового текста, его разбивка – все это ощутимо сблизилось с печатной традицией. Типографические тексты способствовали быстрой унификации деловых документов, одним из проявлений которой стало быстрое распространение различных печатных формуляров с начала XIX века.
Норма деловой речи, документные формы и стандарты, деловая канцелярия в целом – все служило государственной коммуникации в новых условиях XVIII века и, подобно кристаллу, «застывало» неравномерно по разным осям развития. И все же это был закономерный и естественный процесс: регулирующая, мобилизационная и координирующая функции государственной коммуникации на новом витке истории требовали именно таких преобразований в письменной деловой речи.
CRYSTALLIZATION OF FORMAL SPEECH IN THE PETRINE ERA
C ite thi s articl e as : Sadova T. S., Rudnev D. V. Crystallization of formal speech in the Petrine era. Proceedings of Petrozavodsk State University . 2019. No 5 (182). P. 43–47. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.350
Список литературы Кристаллизация деловой речи в петровскую эпоху
- Громова Т. Н. Государственная коммуникация: теоретическая модель и региональная практика // Теория коммуникации & прикладная коммуникация. Вестник Российской коммуникативной ассоциации / Под общ. ред. И. Н. Розиной. Ростов н/Д: ИУБиП, 2002. Вып. 1. С. 43-52.
- Демидов Д. Г., Калиновская В. Н., Колесов В. В., Черепанова О. А. Язык и ментальность русского общества XVIII века / Отв. ред. В. В. Колесов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 318 с.
- Емышева Е. М. Генеральный регламент 1720 года как опыт создания организационного документа // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2008. № 8. С. 248-261.
- Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М: Изд-во Школа «Языки рус. культуры», 1996. 590 с.
- Качалкин А. Н. Содержательно-стилевые свойства деловых текстов XVII века // Русская речь. 2014. № 6. С. 69-76.
- Кудрявцева Е. А. Деловое письмо и книжная традиция: черты преемственности // Вестник Новгородского государственного университета. 2007. № 43. С. 62-64.
- Литвак Б. Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной документации в XVIII-XIX веках (К постановке вопроса) // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин. М.: Наука, 1984. С. 48-55.
- Лобашевская И. С. Жанры официально-деловой речи. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. С. 27-32.
- Майоров А. П. Причинные союзы в деловом языке XVII-XVIII веков // Русский язык конца XVII - начала XIX века: Сб. ст., посвящ. памяти Л. Л. Кутиной и Ю. С. Сорокина. СПб.: ИЛИ РАН, 2006. С. 113-126.
- Майоров А. П. Славянизмы в деловом языке 1-й половины XVIII века // Филологические науки. 2009. № 4. С. 29-36.
- Майоров А. П. Рапорты (репорты) как памятники истории русского языка XVIII века // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Сер.: Филология, история, востоковедение. 2009. № 3. С. 131-133.
- Руднев Д. В., Садова Т. С. Деловой язык как основа государственной коммуникации: проблема нормообразования // Политическая лингвистика. 2018. № 1 (67). С. 198-208.
- Русанова С. В. Трансформация приказной памяти в условиях преобразования регионального делопроизводства в первой половине XVIII века // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 10. С. 70-74.
- Словарь иностранных слов. 18-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1989. 624 с.
- Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1984. 944 с.