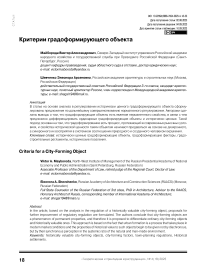Критерии градоформирующего объекта
Автор: Майборода В. А., Шевченко Э. А.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа в регулировании исторически ценного градоформирующего объекта сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию нормативного регулирования. Авторами сделаны выводы о том, что градоформирующие объекты есть явление перманентного свойства, в связи с чем предложено дифференцировать ординарные градоформирующие объекты и исторически ценные. Такой подход основан на том, что градоформирование есть процесс, протекающий в современных рыночных условиях, и свойства исторической ценности таким объектам начинают придаваться на основе не диахронного, а синхронного их восприятия в системном соотношении природного и созданного человеком окружения.
Исторически ценные градоформирующие объекты, градоформирующие факторы, градостроительные регламенты, исторические поселения
Короткий адрес: https://sciup.org/14129153
IDR: 14129153 | DOI: 10.22394/2686-7834-2023-4-18-23
Текст научной статьи Критерии градоформирующего объекта
Постановка проблемы
СТАТ Ь И
Достаточно распространенным явлением массовой культуры в настоящее время является визуализация образа того или иного города посредством представления выдающегося, легко узнаваемого, то есть наделенного индивидуальными свойствами здания, сооружения либо их комплекса. Наиболее тривиальными примерами этому утверждению служат: Спасская башня Московского Кремля, Собор Казанской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, Золотой мост во Владивостоке и другие подобные объекты. Совокупность процессов, вызванных ростом патриотизма, увеличением внутреннего туризма, значимым облегчением внутренней трудовой миграции позволяет использовать приведенную визуализацию не только в качестве культурного объекта, но и наделять свойствами неупотребляемой ценности в качестве элемента культурного наследия и товарной ценности в ряде сфер деятельности, например в сувенирной атрибутике. Очевидно, что узнаваемость визуального образа города сама по себе не является объектом отношений, а экспансия, то есть увеличение узнаваемости этого образа, представляет собой экономический процесс, притом конкурентный, с рядом участников, обретающих правосубъектность в данном отношении непосредственно в его развитии. В настоящее время достаточно очевидными являются попытки преодоления отказа от регулирования расселения населения, имевшего место в советский период, с использованием административнокомандных методов управления. Видится, что законодатель перебирает инструментарий по привлечению жителей в места, не привлекательные сами по себе. Это и раздача гражданам гектаров земель для освоения1, и усвоенные знания о теории Дж. Стюарта о демографической гравитации (demographic gravitation)2, следствием чего выступает попытка урбанизировать Владивосток3; или, например, имплементация специальных административных районов4 в качестве привлекательного места деловой активности. В связи с этим градоформирующие объекты являют собой визуальный образ, вовлечение которого в массовое сознание позволяет апеллировать к доводам о преимуществах той или иной территории для жизни, но по сути это всего лишь демонстрация.
Кроме того, названные объекты не имеют нормативного правового регулирования в качестве самостоятельной ценности, а могут участвовать в обороте лишь в качестве исторически ценных градоформирующих объектов. В данной связи появляется необходимость уяснить значение названного термина, использованного в ст. 59 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73). Таким образом, предметом настоящей работы выступает выявление правового содержания термина «исторически ценные градоформирующие объекты», его отделение от иных объектов и выдвижение предположения о легитимизации в качестве родового понятия «градоформирующий объект».
Диахронный анализ формирования проблемы
Следует обоснованно предположить, что термин «градоформирующий» применительно к рассматриваемым отношениям в нормативном акте впервые использован в 1986 г. с введением в действие «Методических указаний об использовании памятников истории и культуры как градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и проектов детальной планировки городов»5. Интересным является то обстоятельство, что Закон СССР от 29 октября 1976 г. № 4692-IX «Об охране и использовании памятников истории и культуры» не предполагал в своем содержании градоформирования как такового и факторов, способствующих ему, в отличие от действующей нормы, определяющей положение градоформирующего объекта в системе правовой охраны объектов культурного наследия. В «Методических указаниях» данный термин был использован в более широком смысле. Речь в нем шла о «градоформирующих факторах». В предисловии к «Методическим указаниям» авторы В. А. Васильченко, Т. Н. Каменева, В. Р. Кро-гиус, И. И. Кроленко, Д. Н. Кульчинский, Г. Б. Омельяненко, С. К. Регамэ, М. К. Савельева, Т. Н. Соколова, А. С. Щенков и Е. П. Щукина раскрыли содержание вводимого понятия «градоформирующий фактор», указав на его особую роль, согласно которой он должен был стать определяющим направленность преобразований и развития городов. Нормативное содержание термина раскрыто в п. 1.1. «Методических указаний», указавшем, что «под градоформирующими
СТАТЬИ
факторами понимаются основные условия и движущие силы развития и преобразования городов, определяющие направленность и характер их формирования». При этом указывается, что памятники истории и культуры в названных «Методических указаниях» рассматриваются как важнейшие градоформирующие элементы города в неразрывной связи с их историческим окружением.
Спустя 35 лет следует признать сохранение актуальности данного документа и для целей регулирования текущих отношений. Тем более что формально-правового акта о его отмене не имеется, поэтому «Методические указания» являются действующими, но, разумеется, в части, не противоречащей Закону № 73 и иному современному законодательству России. При этом применительно к современному регулированию необходимо констатировать отсутствие какого-либо действенного правового режима в отношении объектов, составляющих историческую ценность, среди которых особое место должны занимать градоформирующие объекты (факторы).
С принятием в 2002 г. Закона № 73 в нормативном регулировании произведена замена термина «фактор» термином «объект», что фактически означает исключение возможности рассмотрения из градоформирования условий, ему способствующих, и рассмотрение данного явления лишь исключительно в качестве объекта отношений. Невозможно дать какую-либо оценку данному обстоятельству с позиции полезности такой замены. С одной стороны, современные средства регулирования не предполагают возможности индивидуализации социально-экономической динамики, которая и является ретроспективным фильтром, сквозь призму которого только лишь в будущем возможно утверждать, что какой-либо фактор в прошлом выступил граформирующим. С другой стороны, наличие волевого начала в качестве фактора градоформирования (например, коммунистического) представляется в период воздействия позитивным, но с достаточной степенью вероятности возможного к пересмотру в последующем.
Вполне приемлемым является тезис о том, что, закрепляя норму об исторически ценных градоформирующих объектах, Закон № 73 предполагает наличие иных градоформирующих объектов, не являющихся исторически ценными и тем самым не попадающих в сферу его действия. Также вполне очевидным предстает тезис о том, что ординарные градоформирующие объекты либо их часть с течением времени становятся исторически ценными градоформирующими объектами. Трудно судить о временной шкале, достаточность которой может выступать определяющим фактором перехода градоформирующего объекта из ординарного состояния в исторически ценное. Также достаточно неопределенно закрепление критерия, согласно которому градоформирующий объект становится исторически ценным. Иллюстрируя данный постулат, укажем, что, например, Всемирная выставка в Париже 1889 г. имела такие примечательные объекты, как Трамвайная остановка перед павильоном машин (La Galerie des Machines), Центральный купол павильона машин (Louis Beroud), Русский павильон, Павильон Аргентины, сельскохозяйственная экспозиция6. Но ценным градоформирующим объектом в историческом соревновании из приведенных финишировал лишь один: Эйфелева башня, хотя сооружена она была точно так же, как и остальные объекты выставки, временно, на период работы выставки.
Однако утверждение о том, что градоформирующим в данном случае выступал именно фактор, как основное условие и «движущая сила развития и преобразования городов», «потребовавший» установки доминантного объекта, а особой исторической ценностью наделен исключительно объект, на наш взгляд, является доказанным.
В формально-правовом смысле исторически ценный градоформирующий объект входит в предмет охраны исторического поселения, который, согласно п. 2 и 3 ст. 59 Закона № 73, утверждается уполномоченным органом государственной власти применительно к каждому историческому поселению и включает, помимо исторически ценных градоформирующих объектов, планировочную структуру, включая ее элементы; объемно-пространственную структуру; композицию и силуэт застройки — соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения. То есть конечный вывод об исторической ценности градоформирующего объекта законом оставлен не за коллективным мнением, образованным из совокупности субъективных оценок, сводящихся в конечном счете к оценочным и вкусовым суждениям, а за органом публичной власти, чье мнение наделяется нормативным свойством, то есть обязательно для исполнения, а в случае несогласия с ним может быть оспорено в порядке административного судопроизводства. Именно такое регулирование позволяет избегать, на наш взгляд, бесконечных дебатов о наличии/отсутствии свойств исторической ценности и свойств градоформирования в каждом конкретном объекте. Ведь именно институт административного судопроизводства содержит норму о перераспределении бремени доказывания, возлагая обязанность по доказыванию законности нормативного правового акта на орган, его принявший (ч. 2 ст. 62 КАС РФ), что предполагает предвосхищение данным органом совокупности доказательств, на которых основано субъективное суждение об исторической ценности и градоформирирующем свойстве объекта. Разумеется, речь идет об экспертизе, проведение которой при принятии решения о наличии названных свойств у объекта, презюмируется при последующем судебном нормоконтроле в отношении акта, утвердившего предмет охраны исторического поселения. В этих экспертизах (органа публичной власти и судебной) лишь один небольшой нюанс-различие — предупреждение экспертов об уголовной ответственности во втором случае и его отсутствие в первом. Видится, что именно эта подпись на заключении судебной экспертизы о предупреждении об уголовной ответственности и есть оселок, на котором, с одной стороны, балансирует экспертное мнение, а с другой — совокупность субъективных суждений общественности, основанных на личных оценках и вкусах. Ведь очевидно, что в обоих случаях суждения являются субъективными, основанными на компетенции, опыте, образовании, личных вкусах. Но в первом случае оно (суждение) обладает свойством ответственности за него, а во втором является личным и не влекущим последствий, ни правового, ни фактического свойства.
СТАТ Ь И
В литературе также имеется позиция о том, что градоформирующий фактор есть процесс, отличающийся по смыслу от объектов, в том числе обладающих исторической ценностью. Так, И. В. Ершова выделяет для некоторых регионов России (Крым, Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и др.) санаторно-курортный комплекс в качестве градоформирующего фактора7. И. Г. Пирожкова, анализируя исторические аспекты регионов Российской империи, выявляет также отличительные свойства градостроительных реалий в «национальных окраинах», то есть выдвигает тезис о таком градоформирующем факторе, как национальная специфика объектов, оказывающих влияние на формирование облика поселений в целом8. Л. В. Аверина и И. С. Мямина в своих выводах рассматривают факторы градоформирования в комплексе, указывая, что в целом историко-культурное наследие рассматривается как один из градоформирующих факторов, влияющих на повышение градостроительной привлекательности территорий, увеличение стоимости на землю9.
Мы со своей стороны также отметим, что градоформирующий фактор, будучи верифицированным в приведенной процедуре по отечественному закону, с участием экспертов и возможностью последующего судебного нормоконтроля есть процедура, создающая объективное утверждение об исторической ценности градоформирующего объекта, отделяющая самим фактом проведения от совокупности субъективных суждений о наличии/отсутствии исторической ценности градоформирующего объекта.
Таким образом следует резюмировать, что градоформирующий фактор и градоформирующий объект соотносятся друг с другом как причина и следствие, а совокупность градоформирующих объектов с течением времени выделяет из своей среды особо ценные, нуждающиеся в правовой охране. Следовательно, сам по себе термин «градоформирующий объект», вне зависимости от его соотношения с исторической ценностью, подлежит закреплению в качестве самостоятельного во взаимосвязи с выделением факторов, посредством которых возможно его формирование.
Действующее регулирование исторически ценных градоформирующих объектов
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 59 Закона № 73 исторически ценные градоформирующие объекты входят в предмет охраны исторического поселения и определяются по смыслу указанной нормы как совокупность объективных свойств здания и сооружения, имеющих объединяющее единство в масштабе, объеме, структуре, стиле, конструктивных материалах, цветовом решении и в декоративных элементах.
Буквальное (адекватное) толкование приведенной нормы позволяет сделать вывод о необходимости наличия сразу всех перечисленных элементов, притом их наличие одновременно как в здании, так и в сооружении10. Более того, правоприменитель подразумевает не только необходимость наличия перечисленных критериев, но и, указывая на взаимосвязь анализируемой нормы с тем обстоятельством, что объект этот расположен в историческом поселении, указывает также на наличие соотношения с природным и созданным человеком окружением, различными функциями исторического поселения, приобретенными в процессе развития, а также другими ценными объектами (см., например Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2018 по делу № 310-КГ17-15291, А84-3633/2016; Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 14.02.2018 № 11-АПГ17-31).
Кроме того, из существа рассматриваемой нормы следует, что исторически ценным градоформирующим объектом может выступать непосредственно свойство единства нескольких зданий и сооружений, выраженное посредством: единства в масштабе, объеме, структуре, стиле, конструктивных материалах, цветовом решении и в декоративных элементах11.
Также особо подчеркнем, что вне исторического поселения построение рассматриваемой нормы не предполагает наличия исторически ценного градоформирующего объекта. Следовательно, вне границ исторического поселения
СТАТЬИ
возможно наличие ординарного градоформирующего объекта, который также возможно определить как свойство единства в здании и сооружении, выраженное в масштабе, объеме, структуре, стиле, конструктивных материалах, цветовом решении и в декоративных элементах.
Единство зданий и сооружений по приведенным критериям имеет корреспондирующую связь смыслового единства с новеллами градостроительного законодательства, имплементировавшего положения о регулировании архитектурно-градостроительного облика объектов в ряде случаев градостроительными регламентами. Per se интеграция в нормативное регулирование такого достаточно дискретного института может служить основанием к выводу о том, что такого рода критерии и есть тот первый барьер, первое препятствие в массовом сознании, преодоление которого начинает путь к закреплению объекта в качестве градоформирующего. Положения об архитектурно-градостроительном облике включены в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 612-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго п. 2 ст. 16 Федерального закона “О железнодорожном транспорте в Российской Федерации”». Так, в силу закона требования к архитектурноградостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим характеристикам объекта, а в силу п. 3 Требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 857 регламентом могут быть установлены требования к цветовым решениям объектов капитального строительства; требования к отделочным и/или строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства; требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства. Подчеркнем, что градостроительные регламенты, составной частью которых становятся требования к архитектурно-градостроительному облику проходят через процедуру общественных обсуждений, публичных слушаний. Эта процедура, аккламация в современности, действительно может служить к получению позитивной либо негативной обратной связи в отношении предполагаемых к созданию в будущем объектов с таким обликом.
Неочевидным является суждение о том, что законодателем выстроена конструкция последовательного применения критериев к объектам, обладающих потенцией к обретению функции градоформирования. На первоначальном этапе это требования градостроительного регламента, то есть ординарное зонирование территории. Последующее — выполнение требований к архитектурно-градостроительному облику объекта. Третий этап, нормативно не определенный и не закрепленный, — обретение объектом градоформирующего свойства. И завершающий этап, при включении территории (зоны) в границы исторического поселения, — статус исторически ценного градоформирующего объекта как совокупности зданий и сооружений, прошедших изложенный селективный отбор в течение времени.
Да, приведенная конструкция, как отмечено, не является очевидной, и для полноценности существования нуждается в легализации термина «градоформирующий объект». Но тем не менее демонстрирует верность суждения о том, что градоформирование есть факторы, а именно «основные условия и движущие силы развития и преобразования городов, определяющие направленность и характер их формирования» и точечное выделение объектов, обладающих свойством исторической ценности с одновременной функцией градоформирования, лишь вершина айсберга в рассмотренных отношениях. Кроме того, объективизация процесса обретения объектом градоформирующих свойств и последующей исторической ценности в условиях рыночной экономики нуждается не только в формальном закреплении, но и в отображении этого процесса в стоимости объекта. Коль скоро историческое поселение имеет в градостроительных регламентах ограничения, являющиеся фактором развития всего поселения, в том числе с точки зрения инвестиционной привлекательности этот статус должен влечь иные компенсаторные механизмы для местного бюджета. Например, признание объекта градоформирующим должно выступать основанием к применению увеличивающего коэффициента в кадастровой оценке недвижимости. Объект влияет на эту стоимость и одновременно накладывает на нее ограничения. Иначе говоря, необходимо закрепление причинности между статусом объекта как градоформирующего и налоговой базы, создаваемой вменением кадастровой оценки недвижимости на имущество. Инвестор в историческом поселении лишен возможности получения прибыли за счет высотности, изменения соотношения между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), какого-либо изменения композиционно-видовых связей (панорамы), и экономический интерес к развитию утрачивается, что сказывается на отсутствии роста имущественных налогов, поступающих в местный бюджет. Компенсировать эти потери способно более высокое налогообложение существующей имущественной основы, и тогда необходимость в привлечении инвесторов становится не столь актуальной.
Выводы
Изложенное позволяет заключить, что, во-первых, советская школа в регулировании градостроительных отношений прошла проверку временем, и в современных условиях очевидно ее соответствие общественным отношениям, вне зависимости от экономического уклада; во-вторых, исторически ценные градоформирующие объекты есть результат процесса, осуществляемого в течение протяженного времени, воздействие на который задача как общества, так и законодателя, поскольку результатом такого воздействия выступают объекты прекрасного. Попустительство в этой сфере приводит к субъективным, неочевидным суждениям, порождающим череду споров и дискуссий, основанных на оценочных суждениях. В-третьих, термин «градоформирующий объект» нуждается в легальном закреплении в градостроительном законодательстве как термин родовой, включающий в свое содержание ординарные объекты, оказывающие влияние на градоформирование и исторически ценные градоформирующие объекты. В-четвертых, поскольку объекты, влияющие на градоформирование в целом, влияют на капитализацию недвижимости в поселении, в котором они расположены, верным будет утверждение и о необходимости определения более высокой, нежели рыночная, кадастровой стоимости, отображаемой в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
СТАТ Ь И
Список литературы Критерии градоформирующего объекта
- Аверина К. Н., Борисов А. А., Воробьев Н. И.Комментарии к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". М.: СПС "Гарант". 2017. 426 с.
- Аверина Л. В., Мямина И. С. Проблемы установления зон охраны объектов культурного наследия и пути их решения. Имущественные отношения в Российской Федерации, 2018. № 4. С. 50-63.
- Ершова И. В. Санатории: уникальный феномен на туристском рынке. Lex russica, 2019. № 10. С. 16-29.
- Пирожкова И. Г. Региональные исключения в регулировании градостроительства в Российской империи (на материале сибирских генерал-губернаторств). Журнал российского права, 2022. № 8. С. 22-32.
- Шевченко Э. А. Нематериальное культурное наследие как предмет охраны исторического поселения: размышления о предмете охраны. Академия. Архитектура и строительство, 2021. № 2. С. 83-90.
- Monod, E. La Section Russie. Exposition universelle de 1889: (Paris, France). Vol. 3. Paris: E. Dentu, 1890. Pp. 150- 159.
- Stewart, John Q. Demographic Gravitation: Evidence and Applications. Sociometry. 1948. Vol. 11. No. 1/2. Pp. 31-58.