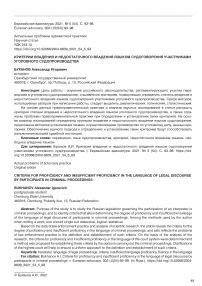Критерии владения и недостаточного владения языком судоговорения участниками уголовного судопроизводства
Автор: Буханов Александр Игоревич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 5 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - изучение российского законодательства, регламентирующего участие переводчика в уголовном судопроизводстве, и выявление критериев, позволяющих определить степень владения и недостаточного владения языком судоговорения участниками уголовного судопроизводства. Среди методов, используемых автором при написании работы, следует выделить диалектический, логический, статистический. На основе данных правоприменительной практики и анализа научных исследований в статье раскрыты критерии степени владения и недостаточного владения языком уголовного судопроизводства, а также отражены проблемы правоприменительной практики при определении и установлении таких критериев. На основе анализа исследований определены критерии владения и недостаточного владения языком судоговорения, предложена методика установления лицами, осуществляющими производство по уголовному делу, данных критериев. Обеспечению единого подхода к определению и установлению таких критериев будут способствовать разъяснения высшей судебной инстанции.
Переводчик, язык судопроизводства, критерии, недостаточное владение языком, свободное владение языком
Короткий адрес: https://sciup.org/140261860
IDR: 140261860 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_54_5_93
Текст научной статьи Критерии владения и недостаточного владения языком судоговорения участниками уголовного судопроизводства
В соответствии с п. «e» ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право «пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке» [10].
Реализация данного международного принципа является важной задачей лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, а обеспечение данного права – их обязанностью.
Реализуя нормы и принципы международного права, ст. 18 УПК РФ устанавливает, что участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством РФ.
Необходимость предоставления переводчика участнику уголовного судопроизводства возникает, когда он не владеет или недостаточно владеет русским языком – языком, на котором осуществляется судопроизводство. Помещая в дефиницию нормы такие условия, как владение, а для обеспечения переводчиком – невладение или недостаточное владение языком судоговорения, законодатель не установил критерии для каждого из этих условий.
Г.П. Саркисянц по поводу критериев владения языком судоговорения отмечает: «... свободно понимать данный язык во всех его нюансах и бегло, без всяких затруднений изъясняться на нем по любым вопросам, возникающим в ходе процесса. Закон подразумевает под владением языком именно активное знание его и умение свободно объясняться на этом языке» [4].
Однако действующее законодательство за последние полвека изменилось, оно стало сложным, в том числе и с точки зрения понятийного аппарата. А всегда ли будут понятны иностранным гражданам русский язык и используемая юридическая терминология, если они не общаются в этих юридических реалиях?
Есть и иной подход к разрешению данного вопроса. Например, О.А. Александрова в своем исследовании высказывает мысль о том, что «вопрос о том, насколько свободно иностранец вла- деет тем или иным языком, может окончательно решаться только им самим» [1].
Думается, такое решение слишком упрощено, и это требует дополнительной аргументации. Полагаем, что владение разговорным русским языком будет недостаточно для полноценного участия в уголовном судопроизводстве. Разговорный язык используется в повседневной жизни, применимая специальная юридическая терминология может быть не понятна лицу, даже если данную терминологию будет разъяснять адвокат. В языке, которым владеет участник уголовного судопроизводства и который является для него родным, юридические термины русского языка имеют свои аналоги, известные такому лицу. Однако объяснить их порой на русском языке такому лицу достаточно сложно, и в этом случае помощь переводчика просто необходима. Нельзя отдавать на откуп только участнику уголовного судопроизводства решение вопроса о достаточном владении языком судоговорения. Критерии знания языка должны быть определены, поскольку не сам участник уголовного процесса, а лица, осуществляющие производство по уголовному делу, основываясь на них, смогут определить необходимость предоставления переводчика участнику, не владеющему или недостаточно владеющему языком судоговорения.
По изученным уголовным делам только 58 участников уголовного процесса, или 17,58 %, свободно владели языком судоговорения, включая письменную и устную речь.
По уголовному делу [5] по обвинению гражданина Республики Узбекистан Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, а также по уголовному делу [6] по обвинению лица без гражданства Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, дознаватель при общении в рамках проверки сообщения о преступлении убедился в свободном владении языком путем первичной устной беседы об обстоятельствах совершенного преступления, о личности и их жизни; им также были опрошены родственники обвиняемых на предмет знания последними русского языка, а свободное владение письмом подтверждалось инициативным письменным заявлением об отказе в предоставлении переводчика, написанным самостоятельно без помощи дознавателя.
Некоторые участники процесса, хотя и владеют языком уголовного судопроизводства, также нередко заявляют ходатайство о необходимости участия переводчика в стадии предварительного расследования.
Например, в связи с особенностями землячества жителей Центрально-Азиатского региона со стороны лиц, которые владели русским языком, тоже заявлялись ходатайства об участии переводчика. Это было обусловлено желанием получить психологическую поддержку от присутствия рядом соотечественника или лица, которое хорошо владеет их родным языком.
В таких уголовных делах переводчик в полном объеме не выполнял возложенных на него функций. Он в основном осуществлял перевод письменно процессуальных документов, которые подлежали обязательному вручению участникам уголовного судопроизводства.
Органы прокуратуры в процессе своей надзорной деятельности идут в решении данного вопроса по достаточно упрощенному пути.
Они указывают на необходимость предоставлять переводчика всем без исключения иностранным гражданам, пребывающим на территории Российской Федерации. Так, по уголовному делу [7] в отношении гражданина Республики Узбекистан С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, и по уголовному делу [7] в отношении гражданина Республики Таджикистан Х. по обвинению в совершении преступления по ч. 2 ст. 322 УК РФ обвиняемые свободно владели русским языком, могли изъясняться устно и умели писать на русском языке. Однако при задержании данных граждан в порядке ст. 91–92 УПК РФ при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения дознавателем был привлечен к участию в деле переводчик. Надзорное ведомство определило такое требование: по уголовным делам, где подозреваемыми (обвиняемыми) являются иностранные граждане, в обязательном порядке должен быть привлечен переводчик с целью исключения фактов необоснованного возвращения уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ.
Полагаем, такой подход является недостаточно верным. Это обусловлено тем, что в таком случае привлечение переводчика для участия в уголовном деле является формальным и приводит не только к нецелевому расходованию бюджетных средств. По таким уголовным делам переводчик свою функцию в уголовном судопроизводстве в полной мере не выполняет, так как обвиняемый ведет общение на русском языке и понимает содержание процессуальных документов.
Если подозреваемый на достаточно высоком уровне владеет русским языком, может говорить и писать, стоит ли и таким лицам предоставлять переводчика? Полагаем, что нет. Ведь для поис- ка переводчика необходимо время. Не затянет ли это производство по уголовному делу, если в поиске переводчика нет необходимости? Возникает еще один вопрос, понимает ли такое лицо юридическую терминологию и будут ли для него достаточными разъяснения со стороны адвоката?
Например, по двум уголовным делам обвиняемые владели юридическими знаниями, однако в полной мере не понимали юридических нюансов предварительного расследования.
Так, по уголовному делу по обвинению гражданина Республики Казахстан С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, обвиняемый являлся русским по национальности, свободно говорил на русском языке, а также проходил обучение в российском высшем учебном заведении по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция». При этом в полной мере обвиняемый не понимал некоторые юридические нюансы уголовного судопроизводства. На стадии предварительного расследования он заявил, что ему необходим переводчик с казахского языка, так как он желал реализовать право на пользование иным языком, которым он владел (казахским) [8].
В другом случае гражданин Республики Казахстан К., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, также являющийся русским по национальности, заявил, что ему необходим переводчик с казахского языка. При этом он свободно говорил на русском языке и имел среднее профессиональное юридическое образование, полученное в России. Как им было указано, всех тонкостей российского уголовного судопроизводства он не понимал [9].
Изложенное поднимает вопрос о критериях достаточного владения русским языком, которые не представлены законодателем.
Полагаем, что критериями владения языком уголовного судопроизводства можно считать:
– изучение языка уголовного судопроизводства в образовательных учреждениях и наличие соответствующего документа (аттестат, сертификат, диплом и т. д.);
– систематическую устную практику на русском языке в русскоговорящей среде;
– практику подготовки документов для государственных органов и структур на русском языке, в том числе и на территории РФ;
– длительную (более трех лет) трудовую деятельность на территории России, связанную, в том числе, и с подготовкой документов.
Полагаем, что отсутствие юридической грамотности у участников уголовного судопроизвод- 95
ства может быть восполнено участием защитника в уголовном процессе.
Некоторые участники уголовного судопроизводства не в полной мере владели русским языком (67 человек, или 20,3 %).
Вопрос о критериях недостаточного владения языком судоговорения относится к наиболее дискуссионным и является наиболее сложным в практике правоприменения.
По уголовным делам, где участник уголовного судопроизводства недостаточно владел языком судопроизводства, иногда переводчик не назначался в связи с тем, что участник предварительного расследования немного мог изъясняться на русском языке, но при этом письменностью не владел. Основная причина, по которой переводчик в таких случаях не привлекался к участию в уголовном деле, заключалась в отсутствии квалифицированного переводчика, который владеет необходимым языком, на территории субъекта, где проводится предварительное расследование.
Имеется практика отказа от переводчика и самим участником уголовного судопроизводства. На стадии возбуждения уголовного дела некоторыми подозреваемыми заявлялось ходатайство, в котором они отказывались от услуг переводчика в связи с тем, что владели русским языком. Однако ввиду отсутствия законодательных критериев недостаточного знания языка судоговорения определить это не представлялось возможным.
В нарушение действующего законодательства следователями и дознавателями принимается решение об удовлетворении такого ходатайства. При этом в качестве аргумента лица, осуществляющие производство по уголовному делу, лишь только убеждаются в том, что подозреваемый может изъясняться на русском языке, однако понимает ли подозреваемый юридическую терминологию, может ли он читать и писать по-русски, выясняется не всегда. Такое упрощенство при решении вопроса о необходимости приглашения переводчика нарушает основополагающие принципы уголовного процесса и, прежде всего, принцип языка судопроизводства.
Отсутствие в действующем законодательстве критериев недостаточного владения языком уголовного судопроизводства на практике приводит к наибольшему количеству ошибок в деятельности органов предварительного расследования и суда.
Вопрос об определении критериев недостаточного знания языка уголовного судопроизводства предлагался к решению рядом исследователей.
В частности, Н.Ю. Волосова и М.В. Волосова, изучив правоприменительную практику, выдели- 96
ли следующие критерии недостаточного понимания языка уголовного судопроизводства. Это затруднения в понимании:
–юридической терминологии, которые не могут быть восполнены разъяснениями участвующего защитника;
– письменных текстов;
– в целом сложившейся правовой ситуации [3].
В целом соглашаясь с позицией исследователей, полагаем, под недостаточным владением языком уголовного судопроизводства следует понимать и те случаи, когда участник уголовного судопроизводства не может в полной мере изъясняться на языке уголовного процесса и письменно, и устно.
В практической деятельности органов предварительного расследования, на стадии проверки сообщения о преступлении или на стадии предварительного расследования, следователь или дознаватель при первичной беседе с участником уголовного дела не всегда может определить уровень его владения языком судоговорения. Чаще всего лица заявляют, что владеют русским языком, и необходимости назначать переводчика нет. Однако при проведении следственных действий (допрос, проверка показаний на месте, осмотр места происшествия, очная ставка и др.) из-за особенностей процессуальной деятельности возникают проблемы с восприятием русской речи, осложнённой юридической терминологией.
В свою очередь, при проведении следственных действий и выявлении факта недостаточного владения языком уголовного судопроизводства следователь или дознаватель принимает решение о назначении переводчика. Однако лица, осуществляющие производство по уголовному делу, сталкиваются с другой проблемой – это необходимость повторного проведения следственных действий, проведенных ранее, уже с участием переводчика.
Другим аспектом недостаточности владения языком уголовного судопроизводства является отсутствие знаний письменности языка судоговорения. В ходе предварительного расследования с целью реализации своих прав участники уголовного процесса заявляют устные ходатайства, однако на просьбу изложить их в письменном виде отвечают отказом, так как не могут этого сделать ввиду незнания письменности или недостаточного владения письменным языком.
По большинству уголовных дел в случае выявления подобных фактов следователи и дознаватели обеспечивали таким лицам участие переводчика.
Полагаем, необходимо выделить определенные критерии владения и недостаточного владения языком уголовного судопроизводства.
Мы не разделяем мнение Е.П. Головинской, которая полагает, что определяющим критерием степени владения языком судопроизводства является мнение самого участника уголовного процесса, его способность воспринимать устную и письменную речь, изъясняться на языке производства по уголовному делу, адекватно воспринимать юридическую терминологию [2]. Полагаем, определяющим критерием степени владения языком судопроизводства или недостаточного владения является установление следователем или дознавателем, владеет ли участник уголовного судопроизводства устной и письменной русской речью, а также понимает ли он юридическую терминологию. Это связано с тем, что именно следователь или дознаватель принимают решение о привлечении переводчика к участию в уголовном деле, и именно они должны всесторонне полно и объективно оценить степень владения языком судоговорения. Действующая редакция УПК РФ не запрещает следователю или дознавателю с целью проверки степени владения письменностью предложить лицу написать текст под диктовку следователя или дознавателя. Полагаем, это позволит оценить уровень владения языком уголовного судопроизводства. И только удостоверившись во владении языком уголовного судопроизводства, следователь или дознаватель должны поинтересоваться мнением участника процесса. Иной подход к разрешению данного вопроса может породить ситуацию, при которой суд при рассмотрении уголовного дела будет ставить под сомнение протокол следственного или процессуального действия, если участник уголовного судопроизводства сошлется на языковое недопонимание в процессе их производства, что впоследствии может привести к возвращению уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
Наличие документов (дипломов, сертификатов, удостоверений и т. д.), подтверждающих знание языка уголовного судопроизводства, и приобщение копии данных документов к материалам уголовного дела следует рассматривать в качестве доказательства, определяющего степень владения языком судоговорения. Однако такое доказательство будет носить в большей степени косвенноинформационное значение.
В Российской Федерации созданы условия для осуществления трудовой деятельности и постоянного проживания иностранных граждан. Так, иностранным гражданам, желающим осу- ществлять трудовую деятельность и (или) иметь постоянное проживание на территории России, необходимо иметь сертификат о знании русского языка, основ законодательства и истории России, получаемый в государственных высших учебных заведениях Российской Федерации. Для его получения иностранному гражданину необходимо сдать экзамен на знание русского языка как устно, так и письменно.
Проводимое анкетирование в рамках исследования показало, что некоторые участники уголовного процесса имели данный сертификат и представляли его лицам, осуществляющим производство по уголовному делу, что рассматривалось следователями и дознавателями как документальное подтверждение знания такими лицами языка уголовного судопроизводства. Полагаем, что такая практика является положительной в деятельности органов предварительного расследования.
Основными критериями, которые подтверждают недостаточное владение языком судоговорения участником уголовного судопроизводства, являются отсутствие понимания языка судоговорения и свободного изъяснения устно и письменно на нем. Полагаем, что при установлении хотя бы одного из них участие переводчика по уголовному делу является обязательным, и следователю или дознавателю надлежит принять меры для привлечения переводчика к участию в деле.
Изложенное позволяет говорить о необходимости выработки единых критериев к определению степени достаточности или недостаточности владения языком судоговорения участниками уголовного процесса. Такое единство может быть обеспечено соответствующими разъяснениями Верховного Суда РФ, в которых бы не только были определены такие критерии на основе обобщенной правоприменительной практики, но и даны рекомендации практическим работникам о порядке установления этих критериев.
Список литературы Критерии владения и недостаточного владения языком судоговорения участниками уголовного судопроизводства
- Александрова О.И. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан: дисс.. канд. юрид. наук. М., 2001. С. 42.
- Головинская Е.П. Процессуально-правовые основы деятельности переводчика по обеспечению принципа языка уголовного судопроизводства: автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.
- Волосова Н.Ю., Волосова М.В. Критерии недостаточного понимания языка уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 2019. № 2. С. 44-47.
- Саркисянц Г.П. Переводчик в советском уголовном процессе. Ташкент, 1974. С. 24.
- Уголовное дело № 65/16-2016 по обвинению Т. по ч. 1 ст. 322 УК РФ.
- Уголовное дело № 65/10-2016 по обвинению Н. по ч. 2 ст. 322 УК РФ.
- Уголовное дело № 65/155-2021 по обвинению Х. по ч. 2 ст. 322 УК РФ.
- Уголовное дело № 65/194-2015 по обвинению С. по ч. 2 ст. 322 УК РФ.
- Уголовное дело № 65/233-2016 по обвинению К. по ч. 2 ст. 322 УК РФ.
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с Протоколами (20 марта 1952 г., 16 сентября 1963 г., 22 ноября 1984 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.