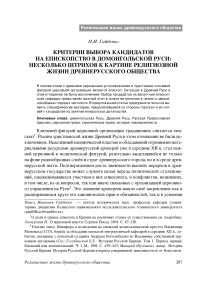Критерии выбора кандидатов на епископство в домонгольской Руси: несколько штрихов к картине религиозной жизни древнерусского общества
Автор: Гайденко Павел Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Религиозная жизнь древнерусского общества
Статья в выпуске: 1 (48), 2013 года.
Бесплатный доступ
В соответствии с древними церковными установлениями и практиками ключевой фигурой церковной организации является епископ. Ситуация в Древней Руси в этом отношении не была исключением. Выбор кандидатов на вакантные епископские кафедры представлял важный этап в жизни митрополии в целом и церковной общины города в частности. В предложенной статье предпринята попытка выявить специфические критерии, предъявлявшиеся со стороны горожан и их князей к кандидатам на занятие епископских должностей.
Домонгольская русь, древняя русь, русская православная церковь, церковное право, каноническое право, история повседневности
Короткий адрес: https://sciup.org/140189984
IDR: 140189984
Текст научной статьи Критерии выбора кандидатов на епископство в домонгольской Руси: несколько штрихов к картине религиозной жизни древнерусского общества
ими разнообразных титулов, значительного комплекса полномочий, привычек и статусных форм поведения, корни которых следовало бы искать как в церковном праве и обычаях Византии и Западной Европы, так и в нормах жизни древнерусского общества и его политических и социальных элит. Ещё одной приметной особенностью обозначенной эпохи стало стремление городских общин, возглавлявших их элит и княжеской власти усилить свой контроль в деле избрания кандидатов на русские епископские кафедры.
В этом отношении XI в. ознаменовался множеством шагов в сторону установления княжеской властью особого патронажа над церковным управлением. Это и небезуспешная попытка возведения на русскую первосвятительскую кафедру русина Илариона3, и специфический выбор Янкой Всеволодовной для киевской митрополии в качестве церковного главы весьма своеобразной своей непримечательностью личности Иоанна-скопца4, и процессы церковной автономизации в Новгороде, связанные с деятельностью епископа Луки Жидяты5, и многие другие события. Все они подготовили ту почву, на которой произошло сближение епископата с верхушкой древнерусского общества6. Со временем пришло и понимание необходимости формирования неразрывности в интересах Руси и её духовных иерархов. Едва ли верно сводить стремление русской знати к участию в выборе кандидатов на занятие епископских вакансий к желанию подчинить церковь интересам городов и княжеских родов. В обозначившемся процессе прослеживалось нечто большее: настойчивое движение к преодолению узко иерархических интересов византийского духовенства и приходившего ему на смену корпуса русских священнослужителей7. Наметившаяся тенденция указывала на желание городских христианских общин гармонизировать церковную жизнь с реальными нуждами и интересами самой паствы и её государства. Пожалуй, наиболее ярким примером присутствия подобных идей в отношении установления более прочных связей между княжеской властью и церковью уже на раннем этапе христианской жизни Руси может служить «Слово о Законе и Благодати» митр. Илариона8. Высказанные русским митрополитом мысли свидетельствовали не только об усвоении Русью многих византийских церковнополитических идей, правда, перерабатывавшихся в соответствии с реалиями восточнославянского общества, но и о взрослении русского христианства9.
В связи с этим выявление специфических критериев, каким должны были отвечать кандидаты на занятие епископской вакансий, представляют принципиально важную научную проблему, разрешение которой поможет приблизить нас к понимаю многих сторон церковной, социальной и политической жизни древнерусского государства.
Требования к кандидатам на занятие архиерейских должностей были разработаны ещё в древней церкви. Они включали в себя самые разнообразные критерии: религиозно-моральные, институциональные, физиологические. Круг первых, нравственных, и отчасти социальных норм, наиболее полно и последовательно был изложен ап. Павлом 10 . Несколько позже, апостольские правила, решения многочисленных соборов и поместных иерархий уточняли и расширяли как сами требования к кандидатам в священство и епископство, так и к процедурам, связанным с избранием и поставлением их на разнообразные церковные посты 11 .
Проблема критериев, которыми должны были руководствоваться на Руси при выборе кандидатов на занятие архиерейских мест, кажется, ни разу не прозвучала в качестве самостоятельной научной проблемы. Лишь замечания и общие наблюдения Е.Е. Голубинского и А.В. Карташева 12 затронули эту сторону церковной жизни. Упрощённое решение заявленной проблемы едва ли способно найти убедительные ответы и удовлетворить взыскательные вопросы, касающиеся деятельности русского епископата. В свою очередь, положение высших церковных иерархов в древнерусском обществе и комплекс возлагавшихся на них обязанностей не были постоянными, со временем претерпевали различные влияния и изменения, завися от множества факторов: личных качеств самих архипастырей, интересов и действий Константинополя, статуса епископии, религиозно-политической ситуации в самом кафедральном городе и на Руси в целом и т.д. Следовательно, требования к кандидатам должны были соответствовать требованиям времени и обстоятельств и далеко не всегда совпадали. В рамках представленной статьи мы постараемся отразить эти особенности.
***
Уже первые летописные известия о принятии Русью христианства показали, что в Константинополе и в Киеве определение оптимальных критериев выбора кандидатов на епископские вакансии было различным. Наиболее отчётливо это противоречие проявилось в личностях первых русских митрополитов и некоторых епископов. Очевидно, что этнический аспект для Константинополя имел самое принципиальное значение. Именно этим можно объяснить то, что на высшие церковные должности ромеи предпочитали ставить не просто византийцев, а именно греков. Ситуация на Руси не была исключительной. Подобная политика наблюдалась и в отношении Болгарии, в которой после учреждения Охридской архиепископии и смерти её первого архиепископа болгарина Иоанна высший церковный пост занимался исключительно греками. Оценивая их деятельность, выдающийся церковный историк К.Е. Скурат пришёл к выводам, которые дипломатично изложил в следующих словах: «немногие из них заботливо относились к своей болгарской пастве» 13 .
Схожая ситуация присутствовала и на Руси. Исследователи уже давно обратили внимание на то, что проследить деятельность, да и сами личности русских церковных иерархов до 1037 г. не представляется возможным, а сообщения о большинстве последующих русских святителей в лучшем случаев немногословны. В результате, предложенная А.Н. Муравьёвым и митрополитом Макарием (Булгаковым) реконструкция правлений киевских митрополитов, рассматриваемая в качестве образцовой, не более чем одна из гипотез14, поскольку о значительной части митрополитов не известно ни то, когда они прибыли на Русь, ни что здесь делали и самое важное: совершенно не ясно где, как и в какое время, наконец, умирали15. Первые добрые слова в адрес греческого иерарха были отмечены только под 1089 г., через 101 год после Крещения Руси, в сообщении о смерти митрополита Иоанна II16. Показательны похвалы, которыми было сопровождено данное известие: «быс[ть] же Иоан мужъ хытръ книгамъ . и оуче-нью . м[и]л[о]ст[и]въ оубогымъ . и вдовицямъ . ласковъ же ко всякому б[ог]ату и оубогу . смеренъ же и кротокъ . молчаливъ . речистъ же книгами с[вя]тыми . оутешая печальныя . и сякого не быс[ть] преж[е] в Руси . ни по немь не будеть сякъ».
При всей традиционной форме панегирика подобные похвалы крайне редки. Например, нечто подобное, только в более ярких словах, было сказано в 1216 г. по случаю смерти ростовского епископа Пахомия 17 . Искренние слова летописца об этом архиерее в своё время привели Б.А. Романова к мысли о том, что идеализировать образ русских архипастырей древности было бы неверно 18 . Поэтому корпус тех качеств, которыми был отмечен киевский первосвятитель, более чем примечателен. Создаётся впечатление, что предшественники Иоанна не были родовиты или знатны (мужи), им не были свойственны любовь к пастве, доброта, тяга к книгам и даже способность говорить, опираясь на священные тексты. Дополнительным подтверждением достоинств Иоанна может служить следующая запись этого же года, не лишённое юмора известие о непритязательной и малоприметной личности преемника Иоанна II — скопца Иоанна III 19 .
Продолжительное умолчание или скудость сообщений источников о личностях большинства русских митрополитов и епископов может быть объяснена лишь одним — отсутствием интереса к их жизни и деятельности со стороны монашества и знати, непривлекательностью их образов и малозначительностью их вклада в жизнь государства и церкви. Именно поэтому так ярко смотрятся на фоне этого многочисленного сонма безликих архиереев такие личности как Иоанн II, оставивший после себя значительное для своего времени литературное наследие20, Никифор, талантливый византиец-дипломат, автор множества посланий и по сути один из инициаторов «переворота», приведшего к власти Владимира Мономаха21, или Ефрем Переяславский, святительство которого ознаменовалось грандиозным строительством в кафедральном городе22. Впрочем, Ефрем, воспитанник Печерского монастыря, не был византийцем в полном смысле этого слова. Его появление в качестве митрополита на Переяс- лавской кафедре, скорее всего, стало исключением, уступкой Византии искреннему грекофилу Всеволоду Ярославичу в обмен на военную помощь империи и сдерживание прозападных устремлений его братьев, Изяслава и Святослава Ярославичей23.
Пробуя осмыслить эту противоречивую ситуацию, М.Н. Никольский пришёл к выводам, которые, как и многие другие наблюдения этого исследователя, в церковной среде по сей день признают излишне «тенденциозными». Автор полагал, что продолжительное время новообразованная русская митрополия вынуждена была принимать далеко не лучших представителей греческого клира, а своего рода «излишки», не способные найти себе должного применения и содержания в самой империи 24 . Однако именно эти выводы учёного позволяют найти вразумительное объяснение тому, что в течение многих десятилетий личности русских архипастырей, а тем более митрополитов, почти не привлекали внимание летописцев, которые, между тем, были монахами и не могли не знать своих архиереев. Свести это умалчивание исключительно к проблеме конфронтации между Печерской обителью и киевской митрополичьей кафедрой было бы не вполне верно уже хотя бы потому, что раннее русское киевской летописание осуществлялось и в Выдубицком монастыре, более лояльном к митрополитам.
Скудость характеристик первых киевских святителей характерна и для новгородских источников. Во главе церковной организации этого города чаще всего находились убеждённые грекофилы25. Именно этими прогреческими убеждениями можно объяснить проведённую во времена Нифонта и Илии на территории епископии унификацию канонических норм по византийским образцам. Проделанная Кириком, Саввой и Илиёй работа по созданию «Вопрошания», систематизировавшего эти правила, вполне может быть квалифицирована в качестве канонической реформы26. Заслуживает внимание и то обстоятельство, что именно новгородцы, в отличие от киевских клириков, сохранили наиболее полные списки русских митрополитов27, не говоря о том, что в середине и второй половине XII в. лишь благодаря жителям этого города и их архиерею Нифонту Византия смогла отстоять свои права на киевскую кафедру28. Естественно, что при таких прогреческих настроениях местных епископов, малозаметность большей части русских митрополитов новгородцами едва ли извинялась удалённостью Киева и преобладанием у владычных летописцев местных интересов. Причины более существенны, и они кроются в том числе в личностях русских первосвятителей29.
Создаётся впечатление, что продолжительное время с точки зрения Византии, по крайней мере, до политического усиления Всеволода Ярославича, первыми важнейшими, а порой и единственными «достоинствами» митрополитов были их греческое происхождение и проимперские убеждения, перераставшие в снобизм и искренне твёрдое неприятие даже проявлений русской свято-сти30. Вероятно, это объяснялось тем, что митрополиты выполняли своего рода консульские функции при дворе великих князей Киева. Очевидно, что эта ситу- ация сохранялась до появления на русской столичной кафедре Иоанна II, представителя одного из знатных родов Византии, Продромов, обладавшего высоким социальным статусом, носившего почётный титул протосинкела, открывавший ему двери не только патриаршей резиденции, но и императорского двора31.
Что касается Руси, то княжеская власть, интересы которой нередко диаметрально противоположно расходились с желаниями, намерениями и приоритетами Византии, иначе оценивала качества будущих епископов и митрополитов. Не имея возможности в полной мере контролировать первосвятительскую кафедру, уже в первые десятилетия принятия христианства правители Киева усвоили себе право выбирать, контролировать и назначать претендентов на священнические и епископские вакансии. Вероятно, это объяснялось как малоини-циативностью самих митрополитов, так и желанием Рюриковичей и знати видеть во главе епископий или у престолов патронируемых ими храмов людей, которым можно было доверять и которые бы оказались максимально полезными в деле христианизации. В данном отношении Крещение Руси вполне может рассматриваться в качестве важнейшего политического «проекта» правящей династии, поскольку этот шаг был связан с распространением и утверждением княжеской власти 32 . Наглядными примерами этого могут служить как известия летописей под 988 г., так и иные повествования, например, рассказы об Иоакиме Корсуня-нине и Леонтии Ростовском 33 .
Несомненно, вопросы подбора кадров в священство не могли не интересовать власть. Так, уже первый настоятель Десятинного храма и первый архиерей Новгорода были корсунянами, поставленным на свои места волей Владимиром. Очевидно, что выбор корсунцев на высшие церковные посты в государстве объ- яснялся в первую очередь соображениями преданности и доверия. К числу первых примеров подобной опеки также можно отнести известие об усилиях Ярослава Мудрого по воспитанию и содержанию киевского духовенства34. Впрочем, нельзя не заметить, что это свободное влияние Рюриковичей и городских верхов на кадровый состав церкви и организацию её жизни едва ли может быть оценено однозначно.
Очевидно, не без участия власть имущих в домонгольской Руси возникла парадоксальная ситуации, заключавшаяся в смешении огромного числа самых разнообразных христианских представлений, отражавших болгарские, сербские, греческие, корсунские, сирийские, германские, польские, венгерские, ирландские — собственно говоря, восточно-христианские, латинские 35 и иные, в том числе арианские и даже иконоборческие церковные традиции 36 , накладывавшиеся на местные религиозные представления. Все эти влияния могли быть занесены лишь одним способом — усилиями приглашённых князьями духовенства, монашества или мастеров церковного искусства соответствующих христианских направлений. Эти взаимные влияния в области архитектуры, христианской и учительной литературы, апокрифических текстов, канонического права продолжали здесь существовать и в более позднее время: после процессов кристаллизации русской митрополии, то есть на протяжении всего XII и первой половины XIII столетий.
Одной из вероятных причин возникшего феномена могло быть продолжительное отсутствие на Руси ясных представлений о культурных и, что более важно, канонических и догматических различиях тех или иных христианских церквей. Во всяком случае, похоже, что князья, знать и городские общины долгое время не придавали этим различиям принципиального значения. Что же касается полемических посланий русских митрополитов, то на протяжении всего домонгольского периода большинство из них так и остались непереведёнными, представляя собой ценность лишь в качестве образцов греческой риторики37, и едва ли оказали какое-либо существенное влияние на местные религиозные настроения38.
Однако уже при выборе Илариона формулируются совершенно иные критерии. Отмечая достоинства любимца Ярослава, летописец указывает на то, что Иларион был «мужъ бл[а]г . книженъ и постникъ» 39 . Очевидно, обозначенный летописцем набор достоинств: знатность происхождения и высокий социальный статус 40 , благость 41 , книжность (начитанность и тяга к книгам) и воздержанность в соответствии с монашескими обетами 42 — рассматривался в качестве наиболее желаемых достоинств главы русской церкви.
Во времена Илариона приходит иное, более зрелое, с канонической точки зрения, осознание принципов легитимности архиерейской власти. С одной сто- роны кандидат должен соответствовать определённым критериям, а, с другой стороны, порядок посвящения на высшую церковную должность должен соответствовать определённым каноническим критериям и процедурам. Вероятно, это понимание было обусловлено спорностью возникшей канонической ситуации. В итоге, сам Иларион, подтверждая законность своих прав на занимаемую им кафедру, сделал следующую ценную запись: «Я, милостью человеколюбивого Бога, монах и пресвитер Иларион, изволением Его, из благочестивых епископов освящен был и настолован в великом и богохранимом граде Киеве, чтоб быть мне в нем митрополитом, пастухом и учителем. Было же это в лето 6559 (1051) при владычестве благоверного кагана Ярослава, сына Владимира. Аминь»43. Подобный акцент присутствует и в летописании, обращающем внимание на то, что Иларион поставлен в кафедральном храме св. Софии собором епископов, что, вероятно, должно было лишний раз подчеркнуть легитимность совершённого шага44. Но в нашей ситуации привлекает набор тех качеств, которые отмечаются древнерусским летописцем в новоизбранном архиерее.
Со временем список требований, предъявляемых к архиереям, увеличивался. Наиболее наглядно данный процесс прослеживается в характеристике уже упоминавшегося ростовского епископа Пахомия. Вероятно, это объяснялось всё большим сосредоточением в руках епископов властных полномочий, приводивших к злоупотреблениям и, как результат, предполагавших более высокие моральные требования к епископату. Однако, скорее всего список желаемых качеств в таком случае звучал в летописании не как реальность, а как несбыточная мечта. Вместе с этим было бы неверно совершенно драматизировать ситуацию. Во всяком случае, в середине и второй половине XII в. на занятие епископских вакансий влияли не только внутрицерковные связи, подкреплённые финансовыми посулами митрополиту и киевскому князю, как это хорошо прослеживается в истории Ростовской земли и Новгорода45, но и личные христианские достоинства архиереев. Это объяснялось непродолжительным, но крайне ярким периодом, во время которого городские общины и местные княжеские династии стали активно участвовать в выборе своих архиереев. Имен- но этот период ознаменовался появлением таких личностей как церковный писатель Кирилл Туровский, целая плеяда ревностнейших новгородских владык, причём именно в этот период титул «владыка» закрепляется за местными архиепископами, ревностный администратор, оставивший о себе противоречивую память ростовский еп. Феодор и некоторые другие. Правда, судя по всему, практика выборности архиереев закрепилась только в Новгороде, что способствовало здесь возникновению специфических форм христианской и политической жизни, обеспечивших этому городу особый политический статус и внутреннюю стабильность.
Обращает на себя внимание то, что большинство из избиравшихся городскими общинами архиереев отличались тягой к аскетизму. Это были либо затворники (прошедшие опыт затвора), причём число епископов, имевших такой опыт в домонгольской Руси, было довольно велико46, либо, как в случае с новгородскими владыками Ильей и Гавриилом — люди, обустраивавшие храмы и монастыри за свой счёт, без излишнего обременения города47. Очевидно, что данный критерий — нестяжательность, становится крайне актуальным, поскольку содержание архиерея обходилось городу и князю крайне дорого. О тратах на архиереев даже таких небольших епископий как смоленская, состоявшая из очень ограниченного числа церквей48, по меркам того времени было колоссальным49. Те же проблемы прослеживаются и в Новгороде. Уставные грамоты не просто регламентировали отношения клириков, храмов, ктиторов, патронов и архиере- ев города. По сути, уставы ограничивали епископов в экономической сфере50. Но очевидно, затворников не хватало на всю Русь.
О том, что во второй половине XII – первой трети XIII вв. проблема злоупотреблений среди архиереев была актуальной, свидетельствуют не только регулярно появляющиеся обвинения в адрес епископов в симонии (некоторые из которых, впрочем, оказываются ложными), но и свидетельства о колоссальном богатстве, скапливавшемся в руках архиереев. Примером это стала судьба ростовского епископа Кирилла (1229), одного из богатейших архиереев Руси, лишённого решением суда своего имущества 51 .
Очевидно, что при том, что при выборе кандидатов на занятие архиерейских кафедр предпочтение отдавалось монашествующим, однако и выходцы из мирской среды, как и представители мирского духовенства могли достигнуть вершин иерархического служения. Таковыми были новгородские братья епископы Илья и Гавриил, вышедшие из княжеского окружения Иларион Киевский и смоленский епископ Лазарь 52 .
Но список предъявляемых к кандидатам на епископские вакансии был бы не полон, если не учесть две важные тенденции второй половины XII – первой трети XIII вв.: наделение некоторых епископов правами «владык», своего рода «светским мечём», и всё большее вовлечение архиереев Новгорода, Ростова, Смоленска, Суздаля, Турова во внутригородские заботы и проблемы. Очевидно, что в обозначенный период ещё одним важным требованием к епископам было разделение епископами городских забот. В житии Кирилла Туровского о прославленном епископе так и пишут: «Съй бе блаженный Кирил рождение и въспитание града Турова» 53 .
***
Рамки и возможности небольшой статьи едва ли способны в полной мере разрешить все возникающие вопросы заявленной проблемы, а тем более отразить то обилие противоречивых фактов и мнений, касающихся процесса подбора кандидатов на епископские вакансии в Древней Руси. Вместе с этим уже предварительные наблюдения, изложенные выше, позволяют заключить, что в целом критерии выбора кандидатов на епископские вакансии в условиях реалий домонгольской Руси имели множество особенностей.
Требования к кандидату зависели как от эпохи (несомненно, что критерии в конце X – начале XI вв. существенно отличались от тех, которые стали предъявляться к ставленникам во второй половине XII в.), так и от статуса той кафедры, которую предстояло занять. Увеличивался и объём этих условий. Возникавшие изменения объяснялись как внутриполитическими влияниями и требованиями византийского права, так и предпочтениями ктиторов кафедр. Конечно же, решающее значение имели личные качества той или иной личности будущего архипастыря. Не вызывает сомнения, что предпочтение отдавалось монашествующим, однако в условиях древней Руси это правило не всегда выполнялось. Впрочем, и выбор монахов не гарантировал того, что на кафедре мог оказаться талантливый святитель. Среди иноков наибольшими симпатиями пользовались бывшие затворники. Вероятно, что такая любовь к подвижникам объяснялась не столько восхищением их аскетическими трудами, сколько желанием уберечь кафедру от злоупотреблений со стороны епископата. Со второй половины XII в. наблюдается едва ли не общерусская тенденция участия земель в выборе своих епископов. Очевидно, что к числу морально-этических качеств были присоединены и качества социально-политические, желание видеть на кафедре лицо, разделяющее нужды и чаяния городов.
Впрочем, изложенные в статье наблюдения — не более чем наброски и штрихи к будущей реконструкции сложной и яркой картины христианской жизни в домонгольской Руси.
Список литературы Критерии выбора кандидатов на епископство в домонгольской Руси: несколько штрихов к картине религиозной жизни древнерусского общества
- Вопрошание Кириково//Русская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6. Стб. 21-62.
- Житие Авраамия Смоленского//Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2005. Т. 5. С. 30-65.
- Иларион, митр. Слово о законе и благодати. М., 1994.
- Киево-Печерский патерик//Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2005. Т. 4. С. 296-489.
- Канонические ответы Иоанна II//Русская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6. Ч. 1. Стб. 1-20.
- Мних Иаков. Память и похвала князю русскому Владимиру//Богословские труды. М., 1989. Т. 29. С. 45-58.
- Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 2001.
- Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 2001.
- Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородская летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.
- (Послание неизвестному князю) митрополита Никифора о латинах//Митрополит Никифор/Исслед. В.В. Милькова, С.В. Мильковой, С.М. Полянского. СПб., 2007. С. 379-409.
- Послание от Никифора митрополита Киевского [и] всей Русской земли, написание на латину к Ярославу князю Муромскому//Митрополит Никифор/Исслед. В.В. Милькова, С.В. Мильковой, С.М. Полянского. СПб., 2007. С. 410-490.
- Послание от Никифора митрополита Киевского к Владимиру князю Всея Руси [о вере латинской]//Митрополит Никифор/Исслед. В.В. Милькова, С.В. Мильковой, С.М. Полянского. СПб., 2007. С. 281-343.
- Татищев В.Н. История Российская: В 3 т. М., 2005. Т. 2.
- Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские Уставы XI-XV вв. М., 1976.
- Янин В.Л. Актовые печати в Древней Руси: Печати X -начала XIII в. М., 1970. Т. 1.
- Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX-XIII вв.: Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии в IX-XIII вв. М., 1980.
- Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над Русскою церковью. СПб., 1878.
- Византийский словарь: в 2 т. СПб., 2011. Т. 2.
- Васильевский В.Г. Два письма византийского императора Михаила VII Дуки к Всеволоду Ярославичу//Васильевский В.Г. Труды. М., 2010. Кн. 1. С. 419-471.
- Воронин Н.Н. Андрей Боголюбский. М., 2007.
- Гайденко П.И. Место русской церковной иерархии в событиях киевского восстания 1113 г.//Клио: Журнал для учёных. 2011. 1 (52). С. 34-37.
- Гайденко П.И. «В се же лето преставися Иоан митрополит…»: беглый взгляд на смерть первых церковных иерархов Киевской Руси//Вестник Челябинского государственного университета: История. 2011. Выпуск 46. 22 (237). С. 82-87.
- Гайденко П.И., Филиппов В.Г. К вопросу о церковной собственности и церковных доходах в Киевской Руси (постановка проблемы)//Финно-угры-славяне-тюрки: Опыт взаимодействия(традиции и новации): Сборник материалов Всероссийской научной конференции/Удм. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, УдГУ; сост. и ред. А. Е. Загребин, В. В. Пузанов. Ижевск, 2009. С. 624-631.
- Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.
- Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Том 1. Период первый, Киевский или домонгольский. Ч. 1. М., 1901.
- Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А., Шапошник В.В. Русское православие: от крещения до патриаршества. СПб., 2012.
- Заозерский Н. О церковной власти. Сергиев Посад, 1894.
- Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003.
- Карташев А.В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Очерки по истории Русской Церкви. М., 1992.
- Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт. СПб., 2004.
- Короленков А.В. Князь Святослав Ярославич и некоторые аспекты его политики//Отечественная история, 2003. №4. С. 158-165.
- Костромин К., свящ. Борисоглебская проблема: вопрос доверия источникам//Русские древности: Сб. науч. ст. СПб., 2011. С. 55-70.
- Костромин К., свящ. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII в.): дисс. к.и.н. СПб., 2011.
- Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. История Русской Церкви в период совершенной зависимости её от Константинопольского патриархата (988-1240). М., 1995. Кн. 2.
- Мельнiкаў А.А. Кiрыл, епiскап Тураўскi. Жыццё, спадчына, светапогляд. 2-е выд. Минск, 2000.
- Мильков В.В. Духовная дружина русской автокефалии: Иларион Киевский//Россия XXI в. 2009. № 5.
- Мильков В.В. Духовная дружина русской автокефалии: Лука Жидята//Россия XXI в. 2009. № 2.
- Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: учёный и мыслитель. М., 2011.
- Муравьёв А.Н. История Русской Церкви. М., 2002.
- Назаренко А.В. Иоанн II//Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 23. С. 471-475.
- Назаренко А.В. О династических связях сыновей Ярослава Мудрого//Отечественная история. 1994. № 4-5. С. 181-194.
- Никольский М.Н. История Русской Церкви. М., 1985.
- Овчинников Г.К. Иларион-русин -выдающийся мыслитель Древней Руси (Очерки жизни и творчества). М., 2011.
- Павлов А.С. Критический опыт по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб., 1878.
- Поппэ А.В. Владимир Святой: У истоков церковного прославления//Факты и знаки: исследования по семиотике истории. Вып. 1./Под ред. Б.А. Успенского и Ф.Б. Успенского. М., 2008. С. 40-107.
- Присёлков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб.: Наука, 2003.
- Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки XI-XIII вв. М., 2002.
- Сахаров А.Н. Русь на путях к «Третьему Риму». М., 2010.
- Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей. М., 2011.
- Титов А.А. Житие св. Леонтия епископа Ростовскаго. Со списка, сделанного О.М. Бодянским из рукописи XV века, принадлежащей Кириллову Новоезерскому монастырю. Ярославль, 1892.
- Толочко П.П. О месте и времени крещения и канонизации Владимира Святославича//Византийский временник. М., 2011. № 70 (95). С. 90-104.
- Успенский Б.А. Когда был канонизирован князь Владимир Святославич?//Успенский Б.А. Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 69-122.
- Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (XI-XVI вв.). М., 1986.
- Федотов Г.П. Канонизация святого Владимира//Святой Креститель. Зарубежная Россия и св. Владимир: Из наследия русской эмиграции. М., 2000. С. 254-267.
- Хрусталёв Д.Г. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб., 2002.
- Цыпин В., прот. Церковное право. М., 1996.
- Dvornik F. Byzantine Political Ideas in Kievan Russia//Dumbarton Oaks Papers. 1956.