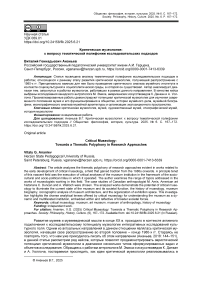Критическая музеология: к вопросу тематической полифонии исследовательских подходов
Автор: Ананьев В.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу тематической полифонии исследовательских подходов в работах, относящихся к раннему этапу развития критической музеологии, получившей распространение с 1980х гг. Принципиально важным для нее было проведение критического анализа музейного института в контексте социокультурной и социополитической среды, в которой он существовал. Автор анализирует диапазон тем, затронутых в работах музеологов, работавших в рамках данного направления. В качестве кейса выбраны исследования канадского антрополога М. Эмиса, американских искусствоведов К. Данкан и А. Уоллоча. Проанализированные работы демонстрируют потенциал критической музеологии для изучения современного положения музея и его функционирования в обществе, истории музейного дела, музейной биографики, иконографического анализа музейной архитектуры и организации экспозиционного пространства.
Критическая музеология, музей, художественный музей, этнографический музей, история музеологии
Короткий адрес: https://sciup.org/149148207
IDR: 149148207 | УДК: 069.01 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.21
Текст научной статьи Критическая музеология: к вопросу тематической полифонии исследовательских подходов
Saint Petersburg, Russia, ,
контексте исследования актуальных музейных практик, биографического подхода к изучению музейного дела и музееведческой мысли, а также в связи с иконографическим анализом техник и технологий музейной презентации. Это представляется актуальным не только потому, что большинство этих идей все еще остается слабо воспринятым отечественным музеологическим дискурсом, но и в связи с тем, что в контексте написания истории критической музеологии как таковой анализ жанрово-тематической полифонии присущих ей исследовательских подходов не проводился. Так, например, в обстоятельной и чрезвычайно содержательной новейшей монографии профессора Университета Сарагосы П.Х. Лоренте (Lorente, 2022), посвященной идеям и практикам критической музеологии, разбираемые ниже работы упоминаются лишь вскользь.
Работы канадского антрополога, профессора Университета Британской Колумбии и директора университетского Музея антропологии Майкла Эмиса (1933–2006) можно рассматривать в качестве своеобразного перехода от идей новой музеологии к идеям критической музеологии. Отвергая релятивизм постмодернизма, он подчеркивал значение для формирования своих научных взглядов идей критической социальной теории в таких ее ранних вариантах, как те, что представлены в трудах К. Маркса и М. Вебера, а также установок новой музеологии в ее канадском варианте (Р. Ривар и др.) (Ames, 1992: 4). Изданный в 1986 г. сборник его статей «Музеи, публика и антропология: исследования по антропологии антропологии» (Ames, 1986) в 1992 г. был переиздан в существенно дополненном и значительно переработанном виде под названием «Пути каннибалов и стеклянные коробки: антропология музеев» (Ames, 1992). Эта книга обозначила определенную веху в критическом анализе как музейного института, так и антропологии как одной из его профильных дисциплин.
Поясняя название второго издания книги, Эмис отмечал, что, по мнению многих критиков, каннибализм музеев заключается в присвоении ими чужих материалов для собственного изучения и интерпретации, а полученные в ходе этого репрезентации они затем заключают в стеклянные коробки витрин. При этом ученый констатировал: то, что одними может считаться присвоением материала, для других будет использованием его в качестве источника вдохновения; то, что одни увидят как реализованное силами культуры заключение в стеклянную коробку, другие будут трактовать как обеспечение сохранности для будущих поколений, а то, что с одной точки зрения следует рассматривать как «промывку мозгов», с другой станет пробуждением сознательности. Поэтому и свою основную задачу Эмис видел не в тотальном разоблачении музея как такового, а в попытке локализовать музей и звучащую в его адрес критику в их конкретный социальный, политический и экономический контексты (Ames, 1992: 3‒5).
Пытаясь осмыслить музей как институт, который мог бы более эффективно и более творчески реагировать на вызовы современности и использовать те возможности, которые дает ему ситуация актуального, Эмис в качестве рабочей гипотезы выдвигает новый образ потенциального музея как культурного центра традиционных и современных перформативных, визуальных искусств, который опирался бы на антропологические концепты сакрального комплекса, культурного перформанса, антропологии действия и музейной антропологии (Ames, 1992: 14–15).
Демократизация музея рассматривается им и в контексте ее воздействия на изменение в соотношении музейных функций, ориентированных на работу с аудиторией и на проведение научных исследований («кураторская дилемма» или «кураторская шизофрения» по терминологии ряда исследователей). Пытаясь найти ответ на вопрос, который по сути является и вопросом о соотношении в музее профильных и музееведческих исследований, Эмис обращает внимание на плодотворность рассмотрения любого музея как репрезентации (или артефакта) того общества, в котором он действует (Ames, 1992: 47), а экспозиции, в которой музей представляет артефакты других культур, как артефакта его собственной культуры (Ames, 1992: 44), говорящего не только о тех, кого представляют, но и о тех, кто представляет.
Последнее предполагает обращение к вопросу о той роли/ролях, которые музей играет в своем обществе, и о его структуре. Здесь на первый план выступает «антропология музея». Не менее важным аспектом нового направления исследований в музеях может стать, по мысли ученого, изучение социальной истории составляющих музейные коллекции артефактов после того, как они покинули своих создателей, и вплоть до (и включая) того момента, когда оказались в музее, т. е. не просто в новом, но реконструируемом контексте (Ames, 1992: 44).
В заданной парадигме Эмис рассматривает и эволюцию подходов к экспонированию этнографических материалов (выделяя такие варианты, как кабинет редкостей, естественнонаучный подход, контекстуализация и эстетизация/формализм), и новые подходы к организации музейного пространства (создание открытых хранилищ разной степени доступности и глубины предоставления информации) как отражение меняющихся парадигм более общего плана, определяющих, как в данном обществе в тот или иной период понимаются роль и использование знания, его доступность, соотношение прав и привилегий и т. д. (Ames, 1992: 49–58, 89–97).
Антропологический подход к изучению музейного института, намеченный Эмисом, получил в начале 1990-х гг. достаточно широкое распространение, в первую очередь при критическом анализе отдельных выставочных проектов, которые и сами зачастую отсылали к парадигме институциональной критики. Такого рода выставки основным предметом рассмотрения имели не какой-то феномен из области профильной дисциплины музея, а сам музей как особый медиум и социокультурный институт. Одной из самых первых (и, вероятно, самой успешной) стала выставка-инсталляция художника Фреда Уилсона в Историческом обществе Мэриленда «Разрабатывая музей» (1992–1993 гг.) (Corrin, 1993). Самой спорной, вызвавшей настоящий медийный скандал, акции протеста, вмешательство полиции и суда, стала выставка куратора Дженни Ка-ниццо «В сердце Африки» в Королевском музее Онтарио (1989–1990 гг., Торонто, Канада) (о ней в сравнении с другим проектом Ф. Уилсона, выставкой «Другой музей», см.: Schildkrout, 1991). Этой выставке была посвящена специальная монография «Оспариваемые репрезентации» американского антрополога Шелли Рут Батлер (Butler, 1999)1.
Применяя методологический инструментарий «полевой» работы этнографа, Батлер провела обстоятельное исследование (включавшее интервьюирование вовлеченных в скандал лиц) и попыталась выявить корни и причины противоречий, приведших к результатам, самым неблагоприятным образом сказавшимся практически на всех вовлеченных сторонах конфликта. Важной частью исследования стала институциональная критика, выявившая слабые стороны в работе музея (возможно, имманентные самой природе музея «классического образца»).
Распространенность такого рода исследовательских стратегий именно для изучения художественного музея, самой популярной, вероятно, профильной группы музеев, имела несколько причин. Отчасти это было связано с эволюцией самой истории искусства как научной дисциплины и изменением ее исследовательских приоритетов. Важный вклад в развитие этого направления внесли представители «новой/левой истории искусства» (Harris, 2002), склонные отвергать привычное для классического искусствоведения разделение на артобъекты и артефакты.
Первым здесь следует назвать имя Кэрол Данкан (р. в 1936 г.), в 1972–2005 гг. преподававшей в Колледже Рамапо в Нью-Джерси. Она на материале истории Лувра, Музея Метрополитен, лондонской Национальной галереи и др. показала роль крупных художественных музеев в реализации «ритуалов гражданственности» – превращении абстрактной публики в граждан определенного политического пространства (Duncan, 1995). Музеи рассматриваются ею как своеобразные подмостки, стимулирующие посетителя реализовывать перформанс особого рода (вне зависимости от того, осознает это сам посетитель или нет), т. е. пространства, структурированные вокруг особых сценариев ритуалов (Duncan, 1995: 1‒2).
Данкан демонстрирует, как художественные музеи предлагают обществу ценности и убеждения, связанные с социальной, сексуальной или политической идентичностью, в форме живого и непосредственного опыта. Ритуалы, одновременно площадками и сценариями/партитурами которых являются музеи, характеризуются тем, что предлагают опыт лиминальности (выключенно-сти из повседневного, с его банальными заботами и линеарным течением времени) (Duncan, 1995: 20). При этом сами ритуалы рассматриваются исследовательницей в общем контексте социальной и политической истории и связываются с процессом формирования сферы публичного пространства и инструментализации буржуазного национального государства. Однако оптика на институции не была единственным исследовательским подходом Данкан.
Последняя крупная работа исследовательницы была выдержана в жанре интеллектуальной биографии. Ею стала критическая биография видного реформатора библиотечного и музейного дела США Джона Коттона Даны (Duncan, 2009). Опираясь на широкий круг как архивных, так и опубликованных источников, Данкан показала связь его идей с общей культурой реформ, получившей распространение в США на рубеже XIX–XX вв., их место в правой части спектра популярного, хотя и достаточно аморфного прогрессистского движения, а также историческую ограниченность взглядов Даны, уступавшего в радикализме своих реформаторских устремлений таким представителям социально-реформистского движения, как, например, одна из создательниц феномена сеттльментов Джейн Адамс (Duncan, 2009: 19–21, 63–65).
Данкан убедительно аргументировала, что призывы к служению обществу, обращенные Даной к библиотекам и музеям, в первую очередь, предполагали учет интересов бизнесменов, на поддержку которых он и должен был опираться в реализации своих идей на практике. Верный последователь английского философа Г. Спенсера Дана считал, что именно свободная деловая конкуренция является источником общественного прогресса (Duncan, 2009: 10–12, 45). Это неизбежно помещало вопросы классовой борьбы и современного положения рабочих в слепую зону его концепции. Интересы сообщества как такового приравнивались к интересам бизнеса, а рабочие, если и появлялись в построениях музейного реформатора, то в облике уже явно устаревшей и сходящей с исторической сцены фигуры высококвалифицированного специалиста, в реальной жизни уступившего место массе неквалифицированных рабочих, выполнявших на заводах начала ХХ в. про- стейшие механистические действия. Вместе с тем историческая ограниченность любой концепции является ее неотъемлемой чертой и не означает автоматического осуждения. Критический подход со стороны автора не переходит здесь в нигилистическое критиканство.
Данкан показывает, как, развивая идеи представителей английского «Движения искусств и ремесел», Дана реализует их в весьма оригинальных практических начинаниях, первым проводя в музее выставки, связанные с современным состоянием производства, разрушая грань между искусством с большой буквы и тем, что вскоре получит наименование промышленного искусства, а также способствуя включению в музейное пространство культуры консьюмеризма. Не имея возможности показать в многонациональном Ньюарке иммигранта-как-рабочего (что предполагало неизбежное внимание к проблеме классовой борьбы), он смещает фокус в сторону показа того же самого актора в рамках парадигмы «рабочий-как-иммигрант», что предполагает внимание к традиционной культуре тех регионов, из которых прибывали нынешние жители Ньюарка. Созданная при их непосредственном участии выставка «Родины» (именно так, во множественном числе) (1916 г.) может считаться одним из первых примеров общинного ко-кураторства, при котором само сообщество принимает самое активное участие в презентации собственного наследия (Duncan, 2009: 133– 137). В центре этой монографии Данкан находится анализ эстетических представлений Даны, специфика их реализации на практике и обусловленность социокультурным контекстом эпохи.
Еще одним представителем этого направления может считаться специалист по истории искусства и художественных институций США Алан Уоллоч (р. в 1942 г.), профессор Университета Джорджа Вашингтона. Анализируя в своих работах практики художественных музеев США с начала XIX в. и вплоть до Первой мировой войны, а также ряд американских художественных выставок конца ХХ в., он показал их значение для формирования категории «высокого искусства», с институционализацией которой и была связана их деятельность (Wallach, 1998: 3). Именно художественные музеи выступали в роли инструментов формирования не просто канона, но и самой истории искусства, причем сам этот процесс был связан с общим социополитическим контекстом: в частности, презентация в музеях подлинников, а не копийного материала увязывается автором с утверждением характерной для капитализма рубежа XIX–XX вв. практики демонстративного потребления (Wallach, 1998: 38–56). По словам исследователя, «проходя по залам, в которых развешаны картины, музейные посетители разыгрывают и, тем самым, в каком-то смысле интернализируют определенную версию истории искусства» (Wallach, 1998: 1).
В итоге предлагаемая музеями история искусства признается автором основанной на мифе, а сам их подход к искусству, хотя формально и является историческим, по сути своей становится трансисторическим, или трансцендентальным, что неудивительно, т. к. именно сакрализация искусства и была основной функцией музеев (Wallach, 1998: 6). Демистификация его предполагает историческую критику музея как института и опирается, по мысли Уоллоча, на ревизионистские по своей методологии проекты (выставки, исследования и т. д.).
Новое понимание искусства, таким образом, будет возможным лишь в случае полной трансформации художественного музея, в саму суть классического варианта которого вписано сопротивление такому ревизионизму: «Ни исследователи, ни кураторы не могут основывать свою работу на мифе или использовать в качестве интеллектуальной опоры ту самую идеологию, которую они и призваны изучать» (Wallach, 1998: 5).
В своих совместных работах К. Данкан и А. Уоллоч впервые использовали аналитические инструменты антропологии (в частности, работы В. Тернера о ритуале), иконографию Э. Панофски и марксистскую теорию (этот перечень приводит сам А. Уоллоч, см.: Wallach, 1998: 1–2), чтобы выявить скрытую природу универсальных музеев (Duncan, Wallach, 1980)1 и музеев современного искусства как ритуалов позднего капитализма (Duncan, Wallach, 2004)2.
В своих построениях они отталкиваются от установки, в соответствии с которой признается, что музеи в современном мире (как храмы и дворцы в прошлом) играют уникальную идеологическую роль. Посредством своих коллекций и самого пространства, которое окружает эти коллекции на экспозиции, они трансформируют абстрактную идеологию в реально переживаемые верования. Музейные здания, таким образом, трактуются авторами как посвященные исключительно идеологии, подтверждающие власть и социальный авторитет господствующих классов, при этом не только передавая идею классового господства, но и «впечатывая в тех, кто видит и посещает их, самые почитаемые данным обществом ценности и верования» (Duncan, Wallach, 2004: 483).
Целостность искусства, представленного в музее, и объемлющей его архитектурной формы организует музейный опыт посетителя наподобие того, как сценарий организует любое драматическое действие (перформативную практику в широком смысле). Следуя такому архитектурному сценарию, посетитель оказывается вовлечен в деятельность, которую авторы определяют как ритуал. Музейный опыт, по их мнению, напоминает в этом и по форме, и по содержанию религиозные ритуалы (Duncan, Wallach, 2004: 483). Анализ музейной архитектуры и организации пространства, таким образом, становится одним направлением исследования.
Другим оказывается анализ «иконографической программы» музея, т. е. взаимосвязи пространства и коллекции, представленных как целостный ансамбль. Здесь ученые выступают против трактовки музея как нейтрального пространства оптимального хранения предметов, не имеющего никаких свойств заданного медиума. Ритуальное пространство музея является для них идеологически активной средой (Duncan, Wallach, 2004: 484). На выявление и анализ ее специфических черт и направлено их внимание.
Продолжая заданную выше религиозную метафору, они называют здание Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) «Шартрским собором музеев современного искусства середины ХХ в.» и рассматривают его в качестве прототипического монумента индивидуализма, понимаемого как субъективная свобода. Спроектированное как «форпост модерности», здание должно было символизировать наступление эпохи эффективности и рационализма. В отличие от построек эпохи демонстративного потребления (отсылающих своей яркой архитектурой к образам античных храмов или ренессансных дворцов), здание МоМА является порождением эпохи корпоративного капитализма и обращается к своим потенциальным посетителям не как к общине граждан, а как к частным индивидуумам, ценящим исключительно опыт, который может быть понят только в субъективных терминах. Никакого послания для публики вообще у этого здания нет (ничто в его внешнем облике не говорит о том, что внутри находится художественный музей), смысл будет понятен каждому в отдельности после того, как он/она пересечет порог и зайдет внутрь (при этом и сам переход, в отличие от музеев предшествующей эпохи, не маркирован как драматический и лиминальный; он нарочито будничный по своим внешним признакам). В этом, для Данкан и Уоллоча, одна из важнейших характерных черт такого идеологического механизма: разделение публичного и частного, внешнего и внутреннего (Duncan, Wallach, 2004: 485–486).
Трактуя свободу выбора всякого отдельного индивида как «главную тему всего здания» (Duncan, Wallach 2004: 486), исследователи демонстрируют, как этот тезис реализуется в организации пространства (отсутствие архитектурных императивов движения на первом этаже), отборе и размещении экспонатов. Вся история современного западного искусства представлена в экспозиции музея как история неуклонной субъективации и абстрагирования визуального языка, а следовательно, уникализации и индивидуализации сознания художника. Каждый художник стремится сказать что-то по-своему, тем самым, имплицитно отвергая возможность разделяемого с другими опыта (Duncan, Wallach, 2004: 488). Итогом этого становится, с одной стороны, все большая дематериализация повседневного опыта и движение к трансцендентному (от Сезанна, где этот мир повседневного еще присутствует, к абстрактному экспрессионизму, где его попросту нет вообще) (Duncan, Wallach, 2004: 489), а с другой, четкое разделение гендерных ролей по линии «мужское – женское», «культура – природа» (Duncan, Wallach 2004: 492‒493). Опыт музея оказывается сходным с опытом лабиринта, выводящим через испытание к свету (духовному просвещению, в данном случае); образ мужчины дается как образ творца, образ же женщины отсылает к образу несущей угрозу «Великой матери», противостоящей свету, духу и творчеству (Duncan, Wallach, 2004: 493).
В итоге разыгрываемый в музее ритуал лабиринта признается исследователями «придающим глянец соперничеству индивидуализма и отчужденным отношениям между людьми, которые характерны для современного социального опыта. Он примиряет посетителя с чистой субъективностью, ставя знак равенства между ними и “уделом человеческим” <...> МоМА примиряет вас с миром снаружи, с тем, каков он сейчас» (Duncan, Wallach, 2004: 496). Следовательно, музей современного искусства (как бы революционного и подрывающего устои буржуазного общества) выполняет идеологическую функцию сохранения существующего status quo, выгодного господствующим на данный момент классам.
Проанализированные работы М. Эмиса, К. Данкан и А. Уоллоча, таким образом, демонстрируют потенциал критической музеологии для изучения современного положения музея и его функционирования в обществе, истории музейного дела, музейной биографики, иконографического анализа музейной архитектуры и организации экспозиционного пространства. Тематическая полифония исследовательских подходов показывает гибкость данного направления музео-логической мысли и потенциальную плодотворность как использования его научного инструментария для разработки нового материала, так и анализа уже существующей историографии.