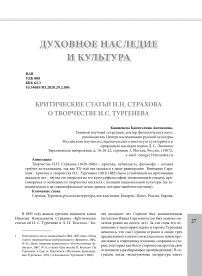Критические статьи Н.Н. Страхова о творчестве И.С. Тургенева
Автор: Кокшенева Капиталина Антоновна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Творчество Н.Н. Страхова (1828-1896) - критика, публициста, философа - сегодня требует актуализации, так как XX-тый век оказался к нему равнодушен. Внимание Страхова - критика к творчеству И.С. Тургенева (1818-1883) было устойчивым на протяжении двадцати лет - взгляд его опирался на его культурфилософию, позволяющую увидеть противоречия и особенности творчества писателя с позиций национальной культуры (не западническая и не славянофильская точки зрения, которые наиболее изучены).
Страхов, тургенев, русская литература, век классиков, базаров, ≪дым≫, Россия, европа
Короткий адрес: https://sciup.org/170174216
IDR: 170174216 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2020.29.2.004
Текст научной статьи Критические статьи Н.Н. Страхова о творчестве И.С. Тургенева
В 1895 году вышла третьим изданием книга Николая Николаевича Страхова «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом».1 Бо- лее двадцати лет Страхов был внимательным читателем Ивана Сергеевича (он был моложе писателя ровно на десять лет). За эти годы его отношение к некоторым идеям и героям Тургенева менялось, что сам Страхов отразил в своих трех предисловиях к книге (он всегда писал новое предисловие к очередному изданию, сохраняя и старые, в которых как бы со стороны смотрел на свое отношение к разбираемым произведениям). В ситуации, когда «межеумочная литература имеет огромный успех»,2 когда издаются сборники, энциклопедии, биографии, не столько уясняющие суть дела, сколько способствующие «рассеянию мыслей», Страхов-критик полагал своей задачей «сознательно и строго уяснить хотя бы не многие главные предметы»,3 чтобы и читатель мог «отличать существенное от побочного и неважного».4 Тургенев и нигилизм, Тургенев и Европа – это все важнейшие темы критики Страхова.
В ту пору, когда появился роман «Отцы и де-ти»5, полагает Страхов, «нигилизм проходил лучшую пору своего развития»6. В начале шестидесятых годов (1860-1862) «освобождение крестьян как будто подало лозунг ко всяческому освобождению умов». Страхов, сам умеющий всегда держать свой ум в состоянии обновления и поиска истины, не мог первоначально не приветствовать этого стремление к новым поискам в эстетике и педагогике, в истории и философии. Но отрицатели «старого» не умели остановиться. Дело стало доходить до того, что было выдвинуто положение о необходимости сочинять «новую религию». Логика нигилизма не могла не занимать Страхова: «Мне казалось, что это огромное возбуждение умов не может не принести каких-нибудь хороших плодов. Отрицание, сомнение, пытливость – неизбежное условие свободной работы мысли. А затем второй шаг будет уже – выход из отрицания, положительная мысль, подъем на более высокую степень понимания»7. Именно в таком настроении Страхов писал статью о романе «Отцы и дети». Но следует учесть и взгляд Страхова на суть творчества: «Роль художества состоит именно в том, что оно выводит “на всенародные очи” самую глубину и ширину жизни, почему оно сильнее и правдивее всяких умствований»8. Нигилизм Базарова Страхов показал с сильной стороны, то есть как чистое отрицание, как идеализированный порыв освобожденной мысли, «как последовательное искание нового пути для жизни и деятельности ума»9. Однако, как стал видеть критик, сам нигилизм (в лице адептов) не выдержал первоначальных своих притязаний и надежд.
Страхов встречался с Тургеневым в 1862 и 1864 году. В эти годы демократическая критика вообще судила писателей очень строго, впрочем, и не только Тургенева: «Это было время литературного террора, когда писателей казнили, лишая их, так сказать, гражданской чести. Но я по вольнодумству, которое не прошло мне даром, никак не мог, даже в самый разгар этого террора, принять его за серьезное дело, Тургенев, более опытный и близко знакомый с литературными кружками, очевидно, лучше понимал опасность и не совсем напрасно тревожился»10. В творчестве это настроение писателя вылилось в тоску и мысль, что «все русское – дым», тем самым он словно защищался от осуждающих мнений. «На мое имя легла тень. Я себя не обманываю; я знаю, эта тень с моего имени не сойдет!»11 – высказал он в 1869 году.
Роман вызвал бурную литературную полемику и общественную дискуссию: одна сторона настаивала на том, что автор оскорбил молодое поколение (вывод М. Антоновича, журнал «Современник»), а противники их с гневом бросают в лицо писателю упреки в «низкопоклонстве», в «заискиванье» перед тем же самым молодым по-колением.12 Автор, настаивают третьи, высмеял и опозорил отцов, молодое же поколение непомерно вознес (отчасти, точка зрения Д. Писарева, журнал «Русское слово»). Но была и еще одна «из- вестная партия» – «спасителей отечества», превратившая слово «нигилист», запущенное в мир самим Тургеневым, в «клеймо позора». Базаров стал «яблоком раздора». Противостояние критиков социал-демократического толка и эстетиков (сторонников «чистого искусства») было жесточайшим, о чем кратко сказал В.В. Розанов: «Орудие (литературного. – К.К.) террора – лишение чести, опозорение … "кислота в лицо"»13. Страхов как раз и писал свою критику, пытаясь разобраться по существу – поверх всех этих скорых мнений. Его критика отражала национальный взгляд на новые процессы.
Для Страхова Базаров – «лицо новое, которое резкие черты мы увидели в первый раз»14. Тургенев не искажал его умышленно, – просто, как чуткий художник, он увидел в образе то, что разбросано в самой жизни в качестве отдельных зародышей. Два журнала – «Современник» и «Русское слово» - как раз представляли и «круг мыслей», и систему убеждений, которые с достаточной силой явились образе Базарова. «Плоть и кровь» обрели теоретические идеи и схемы демократического направления. Но главная проблема, пожалуй, в том, что «взгляд на вещи» названных журналов, претендовал на полное господство в «умственном движении» своего времени. Тургенев же как художник проявил чуткость к новому ходу жизни в лице Базарова.15
Но ход самой литературы был уже иным, что критик увидит довольно скоро.
Размышления Страхова о Тургеневе происходили в трагических общественно-государственных пределах: в 1865 году он издает свою книгу «Из истории литературного нигилизма», а в 1866 году прогремел выстрел Каракозова. Вместо литературного террора пришла пора террора политического. Этот выстрел «поставил точку» в окончательном понимании Страховым смысла нигилистического движения умов: «Это был не умственный поворот, а бесплодное шатание мыслей, не умеющих и не стремящихся во что-нибудь сложиться. Это шатание быстро пошло по давно пробитым колеям революционаризма и анархизма, то есть пошло в отрицательную сторону, как самую легкую и всегда открытую. Но оно не дало нам никакого положительного плода»16. А 19 марта 1881 года произошло убийство террористами императора Александра II. Н.Н. Страхов напишет свои умные «Письма о нигилизме», а в 1883 году опубликует последнюю свою статью о Тургеневе.
Между этими двумя выстрелами лежит «эпоха великих реформ», обратную сторону которой далеко не все современники видели так ясно и глубоко, как это смог сделать Н.Н. Страхов.
Если в «Отцах и детях» Тургенев вывел «новых людей», то в «Дыме» – «умных людей». О повести Тургенева «Дым» критик пишет в 1867 году (статья помещена в «Русском вестнике», № 3), то есть она увидела свет уже после выстрела Каракозова. В главном герое повествования Литвинове, в сущности, «нет образа» (какими были Рудин и Базаров).17 Но герой тоже демонстрирует читателю некое умственное состояние. Страхов цитирует Тургенева: «И все вдруг ему показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское». Однако, критик считает, что в повести нет ничего, что заставило бы героя так думать и чувствовать. Мало того, Страхов находит, что «ни одного из прежних своих героев он не наделял счастьем так легко и так надолго, как Литвинова»18. Следовательно, есть основания предположить, что это состояние («все русское – дым») есть состояние и мысль самого Тургенева, а не его героя. Не случайно центральным местом повести Страхов считал беседу героев Потугина и Литвинова о Европе и отноше- нии к ней. Потугин резко отзывается о славянофилах и смеется над Кохановской19; он предан её (Европы) началам «до чрезвычайности», Россию же он страстно любит и страстно ненавидит. Анализируя диалоги тургеневских «умных людей», Страхов приходит к выводу, что «умные люди не столько пылают любовью к цивилизации, сколько нерасположением к славянофильской теории»20. Он уверен, что помимо «западного ветра» цивилизации, ощутимого в России, есть и другое веяние, который сам же Тургенев называл «черноземною силою». Именно их столкновение позволяют критику утверждать, что все русское далеко не дым: «…Кто живет среди борьбы этих направлений, для кого она составляет насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымом слова и рассуждения, отрицающие серьезность нашей жизни»21.
В 1869 году вышли в свет «Литературные и житейские воспоминания» Тургенева, помещенные во главе Полного собрания, где он объявляет себя западником, а учение славянофилов признает ложным и бесплодным. Но Страхов находит слишком много противоречий в заявлениях писателя, несмотря «на все желание г. Тургенева выставить себя нигилистом»22. Критик отказывает писателю в его притязаниях.
Страхов принимается защищать Тургенева «против него самого», полагая, что смысл его творческой деятельности и его заслуги в литературе гораздо выше той оценки, которые им дает он сам. Опровержением чистого западничества Тургенева для Страхова является роман «Дворянское гнездо», смысл которого (наиболее теплого и поэтичного среди сочинений писателя) «вполне славянофильский». Страхов видит, как поэт и мыслитель пришли в противоречие в Тургеневе. Мало того, всеми своими лишними людьми (Гамлетами, Рудиными, Базаровыми) Тургенев достиг прямо противоположного относительно своего западничества результата – он, в сущности, казнил и развенчал его через своих героев: «Изображая жизнь нашего образованного класса, он видит в ее волнениях и представителях нечто великое и важное <…>. Вдруг оказывается, что это мир фальшивый, чуждый настоящей, здоровой жизни <…>»23.
В своих статьях Страхов вел упорную борьбу за Тургенева. Он – скептик, а не нигилист. Он «не нажил никаких убеждений и умеет лишь ко всему относиться отрицательно»24.
В своих статьях Страхов вел упорную борьбу за Тургенева. Он – скептик, а не нигилист. Он «не нажил никаких убеждений и умеет лишь ко всему относиться отрицательно»25.
В статье «Последние произведения Тургенева» (1871), критик пытается объяснить те толки об упадке творчества писателя, которые ведутся после «Отцов и детей», то есть почти десять лет. Да, в писателе крепко сидит вера в прогресс (и это влияние Запада). Да, Тургенев, весьма ошибался, прилагая к русской жизни формы европейского развития и вообще рассчитывая, что европейская цивилизация привьётся на нашей почве. Его собственный пример и опыт доказывают, что она не прививается: «Базаров есть лучший плод европейского прогресса на русской почве. Что же вышло? За исключением наивных писаревцев никто в нем не видит у нас ни серьезного врага, ни серьезного друга»26. Если западничество писатель «разобидел неумышленно», то уже «совершенно умышленно не остался в долгу и перед славянофильством»27. И само по себе внимание чуткого, проницательного Тургенева к славянофильству, доказывает критик, становится свидетельством того, что именно славянофильство стало значительным и влиятельным направлением общественной мысли. Собственно, в романах Тургенева нет западной жизни, которой следовало бы подражать. В то же самое время у него достаточно много таких героев, в которых вообще нет ничего западнического, и, тем не менее, выписаны они с симпатией – Лиза из «Дворянского гнезда», Маша «Затишья», героиня «Аси», Хорь и Калиныч, Касьян из Красивой Мечи и другие.
На живом опыте Тургенева мы можем убедиться, что Запад «не дает веры» русскому человеку, что он производит в нем некий скептицизм» . Европа, оторвав его от родного, тем не менее не позволила ему «всей душой примкнуть к чужому», но только и дала возможность в этом «чужом» усвоить элементы отрицания и неверия.
На живом опыте Тургенева мы можем убедиться, что Запад «не дает веры» русскому человеку, что он производит в нем некий скептицизм»28 . Европа, оторвав его от родного, тем не менее не позволила ему «всей душой примкнуть к чужому», но только и дала возможность в этом «чужом» усвоить элементы отрицания и неверия.
В последней статье критика «Поминки по Тургеневу», написанной после смерти писателя, в 1883 году, подводятся некоторые итоги. Тургенев, двадцать пять лет привлекающий к себе внимание читающей публики, был сам теснейшим образом связан с этой публикой –он не мог и не хотел от нее отъединяться, он не хотел расходиться с её вкусами и её мыслями, а потому писатель «никогда не впадал в противоречие с духом того общественного слоя, которому служил»29. Как этот слой, так и писатель, не был увлечен религиозностью, патриотизмом, славянской идеей. Как этот слой, так и писатель, не был расположен к идее народности, а, напротив, был расположен «ко всеядности мнений и вкусов, и всегда инстинктивно уклоняется от строгой и решительной постановки вопросов»30.
Русский писатель Тургенев поставил себя в неверное отношение к Европе. Страхов считает, что Тургенев до конца духовно так и не вернулся к своей родине: те внутренние силы, которыми живет Россия были ему достаточно чужды, «и он с каким-то отчаянием хватался за одно лишь понятное ему проявление народной души – за наш язык»31. И все же, Страхов видит в его писательской личности черты родственности России: «Его симпатии в отношении к людям были чисто русские. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце – вот что добрый и мягкий Тургенев ставит, очевидно, выше всяких других достоинств»32. Что же еще русского сохранялось в нем, несмотря не духовное «невозвращение»? Критик видит тут и его способность к отражению религиозной жизни народа в ряде рассказов; и его бесконечно любовное отношение к русской природе. Но все же, считает Страхов, Тургенев не был выразителем глубинно-национальной сущности народа, не был великим народным писателем, оставаясь «певцом» общества – культурного слоя своего времени.
Список литературы Критические статьи Н.Н. Страхова о творчестве И.С. Тургенева
- Авдеева Л. Р. Русские мыслители: Ап. Г. Григорьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. (Философская культурология второй половины XIX века). М. : МГУ, 1992.
- Антонович М. А. Воспоминания. / Шестидесятые годы. М. : Academia, 1933.
- Антонович М. А. Асмодей нашего времени. / Критика 60-х годов XIX века. М., 2003.
- Грот Н.Я. Памяти Н. Н. Страхова. // Вопросы философии и психологии. Кн.32. 1896.
- Елисеев Г. З. Воспоминания. / Шестидесятые годы. М. : Academia, 1933.
- Ильин Н.П. Два этюда о Н. Н. Страхове (1828-1896). // Русское самосознание (философ-ско-исторический журнал). СПб., 1996, № 3.
- Ильин Н. П. Трагедия русской философии. Часть I. От личины к лицу. СПб., 2003.
- Катков М. Н. Роман Тургенева и его критики. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева. / Критика 60-х годов XIX века. М., 2003.
- Лебедев Ю.В. Тургенев. М, Молодая гвардия (серия ЖЗЛ). 1990. - URL: http://turgenev-lit. ru/turgenev/bio/lebedev/turgenev-1.htm
- Страхов Н. H. Литературная критика / Вступит. статья, составл. Н. Н. Скатова, примеч. Н. Н. Скатова и В. А. Котельникова. М. : Современник, 1984.
- Страхов Н.Н. Герцен. Милль. Парижская коммуна. Ренан. Историки без принципов. / Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. I. Изд. 3-е. Киев, 1897.
- Страхов Н.Н. Письма о нигилизме. / Борьба с Западом в нашей литературе. Кн.2. Изд. 3. Киев, 1897.
- Страхов Н.Н. Литературная критика. М.,1984.
- Страхов Н.Н. Из истории литературного нигилизма. 1861-1865. СПб., 1890.
- Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом: 1862-1885. Изд. 3-е. СПб., 1895.
- Тургенев А.С. По поводу «Отцов и детей». Литературные и житейские воспоминания. / Сочинения. 1880. URL: http://turgenev-lit.ru/turgenev/ vospominaniya/literaturnye-vospominaniya/po-povodu-otcov-i-detej.htm.