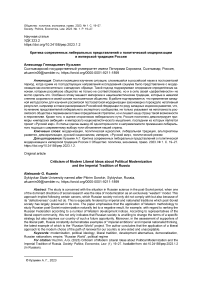Критика современных либеральных представлений о политической модернизации и имперской традиции России
Автор: Кузьмин Александр Геннадьевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению ситуации, сложившейся в российской науке в постсоветский период, когда одним из господствующих направлений исследований социума было представление о модернизации как исключительно «западном» образце. Такой подход подразумевал следование определённым канонам, которым российское общество не только не соответствовало, но и в силу своей «дефективности» не могло сделать это. Особенно этому мешают имперские и националистические традиции, которые в немалой степени сохранило в своей основе постсоветское общество. В работе подчеркивается, что применение западной методологии для изучения российской постсоветской модернизации закономерно порождало негативный результат, например в плане ранжирования Российской Федерации по ряду западных индексов развития, что, по мнению представителей либерального экспертного сообщества, не только указывает на неготовность российского общества к переменам в плане определённой стратегии, но и лишает нашу страну такой возможности в перспективе. Кроме того, в оценке сторонников либерального пути, Россия постоянно демонстрирует примеры «имперских амбиций» и имперского националистического мышления, последним из которых является проект «Русский мир». В статье сделан вывод об односторонности и неприемлемости применения либерального подхода к современному выбору пути обновления нашей страны.
Модернизация, политическая идеология, либеральная традиция, альтернативы развития, демократизация, русский национализм, империя,
Короткий адрес: https://sciup.org/149142017
IDR: 149142017 | УДК: 323.2 | DOI: 10.24158/pep.2023.1.2
Текст научной статьи Критика современных либеральных представлений о политической модернизации и имперской традиции России
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия, ,
Одной из значимых проблем, ставшей серьёзным препятствием для беспристрастного анализа социально-политических процессов и исторического прошлого России, является понимание рядом известных отечественных исследователей самого механизма общественных изменений с точки зрения соответствия неким западноевропейским или американским (западным) образцам. Многие российские исследователи указывают на это как на само собой разумеющийся факт. Например, самые известные примеры исторических российских модернизаций – «прорубание окна в Европу» Петром I, политика просвещённого абсолютизма Екатерины II, либеральные изменения в первый период царствования Александра I, реформы Александра II, почти приведшие к введению в стране конституции, столыпинские реформы начала XX в. – можно интерпретировать как попытку следовать западноевропейской модели общества (в советский период – также западной марксистской теории), хотя бы и в оригинальном российском варианте. Иными словами, в истории российских реформ модернизационной основой нередко была идея достижения в России некоего западного образца общественных отношений. Во времена «оттепели» Н.С. Хрущев по этому поводу выразился кратко и понятно – как о задаче СССР «догнать и перегнать Америку».
Либеральная точка зрения на российскую модернизацию, на наш взгляд, утратила свою актуальность. Сегодня, как показывает опыт воссоединения Крыма с Российской Федерацией и собственно сам украинский кризис, начиная с 2014 г. (событий «Русской весны»), больше оказались востребованы концепции общественных изменений, имеющие исторически обусловленный, во многом консервативный характер.
У современного отечественного политолога В.П. Милецкого со ссылкой на французского социолога Алена Турена есть формулировка концепции «модернизация в обход модернити» – модернизация при сохранении специфики национального архетипа и национальной культуры, национальной идентичности и фундаментальных традиций образа жизни. Она исключает навязывание западных стандартов в результате вестернизации (Милецкий, 1997: 15). В постсоветской России присутствуют не только сторонники западной модели развития, но и её оппоненты, выступающие за различные варианты «консервативной модернизации», как среди представителей научного сообщества (А.С. Панарин (2002), Б.Е. Ерасов (2002), Е.Н. Мощелков (1996) и др.), так и среди некоторых общественно-политических деятелей, традиционалистов и идеологов русского национализма (А.А. Проханов (2007), А.Г. Дугин (2007), Э.В. Лимонов (2002) и др.). В настоящее время существует множество определений слова «модернизация», одно из них, выражающее современную сущность российского модернизационного процесса, сформулировано следующим образом: «Модернизация в XXI веке есть комплексный способ решения политических и экономических, социальных и культурных задач, которые в полный рост стоят перед государством, обществом в контексте внутренних, мегарегиональных и глобальных угроз и рисков, это совокупность процессов технического, экономического и социокультурного развития общества (страны и её регионов), повышающих его конкурентоспособность» (Лапин, 2011: 4).
Что касается термина «империя», то в своем исследовании мы опирались на понятие, предложенное политологом О.Ю. Малиновой. В несколько сокращенном варианте её определение империи в теоретическом представлении имеет следующие характеристики:
-
1) многосоставность государства, в которое включено много народов;
-
2) наличие центра и периферии;
-
3) автократический способ интеграции территорий и общества «сверху»;
-
4) наличие «универсальной объединяющей идеи», некоего глобального проекта;
-
5) влияние на международной арене, стремление распространить влияние на другие государства при сохранении ими формальной самостоятельности (Малинова, 208: 63–66).
Безусловно, считать Россию империей в полном смысле данного понятия неправомерно. С точки зрения рассматриваемой с научных позиций проблемы, не опускаясь до обывательского уровня ее понимания, такое методологическое допущение вполне оправданно стилистически.
Например, таким же далеко не бесспорным механизмом определения степени демократичности того или иного государства является так называемый индекс демократии, который используется с 2006 г. для создания ежегодного рейтинга примерно из 167 стран мира по ряду критериев, характеризующих некий «уровень развития демократии», что, соответственно, отражается в специально разработанной на основе этих данных классификации политических режимов (полноценные демократии, несовершенные демократии, гибридные режимы, авторитарные режимы), составляемой британской компанией Economist Intelligence Unit, издающей журнал либеральной ориентации The Economist. На самом деле таких вызывающих определённые сомнения показателей используется в мировой (западной) практике много: индекс процветания, индекс развития человеческого потенциала, индекс качества жизни, индекс социального прогресса, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс глобализации, различные индикаторы устойчивого развития и ряд других рейтингов. Все они связаны с ангажированным ранжированием государств мира на группы стран разной степени развитости и практически ориентированы на социально-экономические и экологические показатели, разрабатываемые различными международными организациями, где огромное влияние имеют страны западного мира. Возьмем, например, индекс демократии. Типичной иллюстрацией использования подобного индекса, на наш взгляд, является утверждение российского либерального экономиста и публициста А.П. Заостровцева, что «новое имперство Московии 3.0 пронизывает всю внешнюю политику путинизма. Так же, как и связанная с ней экспансия. Достаточно сказать, что по Глобальному индексу мира… Россия в 2019 г. заняла 154-е место в мире из 163 включенных в него государств» (Заостровцев, 2020: 228).
Отметим, что используемые в таких классификациях данные базируются на неких закрытых экспертных опросах и показателях общественного мнения, что вызывает резонные сомнения в отношении их валидности и верификации. Кроме того, непонятно, какое в целом отношение к либеральной (западной) демократии могут иметь целый ряд стран из различных регионов мира, которые по своей исторической, религиозной, культурной или экономической составляющей общества заведомо имеют большие проблемы с демократией или даже демократическими элементами как политическим явлением.
Мы должны отметить, что критическое отношение к модернизационным усилиям современных российских властей в целом характерно для сформировавшейся в стране устойчивой либеральной традиции (Гельман, 2019; Давыдов, 2022; Колесников, 2022, и др.). Так, ещё десять лет назад представители этого направления в российском современном обществоведении заявляли, что «сформированная к концу нулевых годов модель российского государства сегодня стала неадекватной задачам сохранения статуса России в мире и новым вызовам мировой экономики» (Бусыгина, Филиппов, 2012: 16; Демократия и модернизация…, 2010, и др.).
Можно сказать, что за последние десять лет ничего не изменилось, сторонники западной модели повторяют те же слова. Например, научный руководитель Центра исследований модернизации в Европейском университете в Санкт-Петербурге Д.Я. Травин заявляет: «Россия с её нынешней политикой плохо вписывается в формирующуюся картину XXI века. Мы в основном ориентируемся на давно прошедшие времена, гордимся былыми свершениями, ищем ориентиры в истории и стараемся отгородиться от того нового и непривычного, что несёт с собой текущее столетие» (Травин, 2019: 314). Помимо дежурного упрёка в отставании России от западного мира здесь разве что добавлено ещё предупреждение о китайской угрозе: «В целом социально-экономическая система, формирующаяся сегодня в России, способна породить длительный застой. Зарубежный мир XXI века будет быстро меняться, а мы станем все больше отставать от современных тенденций… Мы дистанцируемся от Запада и отторгаем европейские ценности, а это значит, что волей-неволей Россия будет всё теснее примыкать к Китаю… Экономический застой и нежелание найти своё место в хозяйственной системе XXI века обрекают Россию на роль сырьевого придатка самой сильной страны восточного полушария» (Травин, 2019: 316–317).
Важным моментом в критике российской модернизации у представителей отечественной либеральной мысли является соединение двух негативных дискурсов – нарративов империи и русского национализма. Например, А.Р. Абалов и В.Л. Иноземцев, комментируя современную российскую политику и проект «Русский мир», пишут: «Хотя В. Путин и аргументировал аннексию Крыма заботой о соотечественниках, хорошо известно, что нынешняя Россия трактует «русский мир» крайне расширительно» (Абалов, Иноземцев, 2021: 8). По их мнению, российская внешняя политика имеет явный проимперский характер: «Оценивая современное поведение России на международной арене, мы отметили, что оно напоминает скорее поведение империи, чем национального государства» (Абалов, Иноземцев, 2021: 19). Более того, в историческом плане, на их взгляд, Россия «никогда не существовала в форме, отличной от империи, – если не по названию, то по содержанию. Именно это, на наш взгляд, и обусловливает исключительную устойчивость имперских трендов в политике, воспроизводящихся без существенных отличий на протяжении вот уже более пяти веков». Иными словами, они считают, что «имперское и экспансионистское сознание» является «естественным составным элементом российской идентичности» (Абалов, Иноземцев, 2021: 19, 21). Авторы также отмечают, что Россия, при некоторых различиях, как империя похожа на европейские империи: «Несмотря на то, что пути развития Московии и России существенно отличались от исторической динамики большинства европейских государств, российский имперский проект оказывается хронологически крайне схожим с эволюцией европейских империй». Но главной проблемой для страны, на их взгляд, является сегодня «всё более разительное несоответствие возрождаемых ею практик тем стереотипам поведения, которые сегодня распространяются в остальном мире». Итогом этих отличий является констатация такого негативного положения, что «страна, которая на протяжении своей многовековой истории выступала окраиной нескольких цивилизационных центров, каждый из которых она затем опережала в своем развитии или по крайней мере становилась с ним вровень, сегодня стремительно превращается в глобальную периферию, которая с каждым годом внушает остальному миру все большие ужас и недоверие» (Абалов, Иноземцев, 2021: 24–25).
Практически речь снова идёт о перманентных неудачах российской модернизации. Для данных представителей российской либеральной общественности причина всех указанных проблем обнаруживается в том, что «Россия являлась и является своего рода бесконечной империей», которая «воспроизводит имперские стратегии и тактики поведения, оставаясь угрозой для соседей и продолжая подавлять ростки федерализма и самоуправления внутри самой себя». Кроме того, такие понятия как «”вертикаль власти” внутри и воображаемый “русский мир” снаружи – прямые продукты российской имперской истории, отказаться от которых она… в ближайшее время не сможет (в том числе и потому, что подобные структуры и представления не только насаждаются элитами, но и не отвергаются населением)». Подводя итог своим рассуждениям, А.Р. Абалов и В.Л. Иноземцев характеризуют состояние российской империи следующим образом: «Она не мертва и сейчас, хотя экономически слаба, идеологически бессодержательна и геополитически изолирована» (Абалов, Иноземцев, 2021: 24–25).
Таким образом, в российской либеральной традиции сегодня такие понятия как «Русский мир» и «империя» являются порождением исторической традиции «бесконечной» российской (русской) империи, страны, которая сегодня не может найти своё место в глобализирующемся мире и обречена влачить одинокое и незавидное существование на положении «страны-изгоя», от которой отвернулись государства, представляющие «хорошие» западные демократии, их союзники и сателлиты.
Понимая настоящие причины скептического и в целом негативного отношения зарубежных и отечественных представителей гуманитарных и общественных наук из числа сторонников либеральной идеологии к возможностям модернизации российского общества, а, по сути говоря, к нему самому и к положительному реформационному потенциалу российской исторической традиции, мы должны учитывать, что специфической чертой отечественных процессов модернизации социально-политической системы является их циклический характер, характеризующийся периодической сменой либеральных и консервативных реформ с общим вектором развития в сторону либерализма.
Как отмечает отечественный философ В.И. Пантин, «если в фазе либеральных реформ в России складываются новые, более сложные политические и экономические институты, то в фазе контрреформ такие институты подвергаются существенному преобразованию для адаптации к ним общества и государства. В итоге российская политическая система при всех характерных для нее противоречиях, потрясениях и потерях все же эволюционирует, приспосабливаясь к меняющимся условиям» (Пантин, 2002: 21).
Таким образом, российская политическая модернизация предполагает результативную работу политической системы в центре и регионах, а также развитие действенной системы политической коммуникации. Целью нынешней модернизации в данном аспекте является построение адекватных современности механизмов эффективного управления в центре и регионах, учитывающих современные риски и угрозы развития страны и общества.
Кризисность современной социально-экономической системы России определяет ориентацию россиян не на размытое понятие «свободы» и абстрактные рассуждения об общечеловеческих правах, а на сильное и справедливое государство, что служит опорой возможного проведения в стране консервативных преобразований, в том числе и в виде ответа России на санкционную политику стран из числа сторонников западной модели развития. В связи с этим возрастает вероятность политического уклона «вправо» как реакции на разрушение несиловых факторов российской государственности. Среди основных причин этого следует выделить: демографический потенциал, идейно-духовное состояние общества, систему национальных отношений, науку, образование, финансово-экономическую систему (Якунин и др., 2013). Ослабление данных факторов, даже при повышении мощи силовых факторов (военная система, территориальная составляющая и др.), приводит к разрушению российской государственности и сужению перспектив стратегического развития страны. На наш взгляд, в такой ситуации нормальной практикой может быть обращение к собственной исторической традиции, что следует делать, не боясь нелепых обвинений в «империализме». Так, известный современный российский историк А.И. Миллер резонно полагает, что «важно иметь в виду, что наследие империй не только бремя, но, в определённых случаях, и ресурс, которым можно умело воспользоваться во благо будущего развития» (Миллер, 2008; 6).
Подводя некоторые итоги, можно сказать, что либеральная оценка российской модернизации на сегодня исчерпала себя, на её место, скорее всего, будут выдвинуты другие модели развития, никак не связанные с либеральной идеологией. Можно предположить, что среди них, в том числе, вполне могут быть некоторые концепции из идейного багажа русских национал-патри-отов имперской направленности. Последние полностью поддержали идеи проекта «Русский мир», предлагаемого российской властью после событий, связанных сначала с воссоединением в 2014 г. Крыма с Россией, а затем специальной военной операцией (февраль 2022 г.) и присоединением ряда бывших украинских территорий.
Тем не менее, актуальной остается угроза разрушения российской государственности, она в современных условиях может стать причиной радикализации российского социума и привести к процессам нарушения национального единства страны. Подобные тенденции прослеживаются, например, в современной Украине. Поэтому в условиях нестабильности социально-экономической системы страны и резко ухудшающихся внешнеполитических отношений с большинством стран Европы и НАТО крайне важным является соответствие процессов повышения общественного самосознания и расширения внутренней демократизации общества развитию и поддержанию стабильной деятельности основных государственных институтов, а также сохранению общегосударственных традиционных ценностей и идеалов.
Список литературы Критика современных либеральных представлений о политической модернизации и имперской традиции России
- Абалов А.Р., Иноземцев В.Л. Бесконечная империя: Россия в поисках себя. М., 2021. 426 с.
- Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая модернизация государства в России: необходимость, направления, издержки, риски. М., 2012. 222 с.
- Гельман В.Я. «Недостойное правление»: политика в современной России. СПб., 2019. 254 с.
- Гудков Л.Д. Абортивная модернизация. М., 2011. 630 с.
- Гудков Л.Д. Возвратный тоталитаризм: в 2 т. Т. 2. М., 2022. 720 с.
- Гудков Л.Д. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. М., 2004. 816 с.
- Давыдов М.А. Цена утопии. История российской модернизации. М., 2022. 536 с.
- Дерлугьян Г.М. Демократия как озеро: предисловие к русскому изданию // Тилли Ч. Демократия. М., 2007. С. 6-13.
- Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века / под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2010. 318 с.
- Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века. СПб., 2007. 382 с.
- Заостровцев А.П. Полемика о модернизации: общая дорога или особые пути? СПб., 2020. 310 с.
- Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность. М., 2002. 522 с.
- Колесников А.В. Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки рoссийской модернизации и наследие Е. Гайдара. М., 2022. 608 с.
- Лапин Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации // Социологические исследования. 2011. № 9. С. 3-18.
- Лимонов Э.В. Моя политическая биография. СПб., 2002. 302 с.
- Мадьяр Б., Мадлович Б. Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура / пер. с англ. Ю. Игнатьевой: в 2 т. Т. 1. М., 2022. 744 с.
- Малинова О.Ю. Тема империи в современных политических дискурсах // Наследие империй и будущее России / под ред. А.И. Миллера. М., 2008. С. 59-102.
- Милецкий В.П. Российская модернизация: предпосылки и перспективы эволюции социального государства. СПб., 1997. 126 с.
- Миллер А.И. Наследие империй: инвентаризация // Наследие империй и будущее России / под ред. А.И. Миллера. М., 2008. С. 5-22.
- Мощелков Е.Н. Переходные процессы в России: опыт ретроспективно-компаративного анализа социальной и политической динамики. М., 1996. 152 с.
- Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2002. 416 с.
- Пантин В.И. Возможности циклически-волнового подхода к анализу политического развития // Полис. Политические исследования. 2002. № 4. С. 19-26.
- Проханов А.А. Симфония «Пятой Империи». М., 2007. 288 с.
- Травин Д.Я. Крутые горки XXI века: постмодернизация и проблемы России. СПб., 2019. 336 с.
- Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской государственностью. М., 2013. 472 с.
- Hobson Ch. Democratic peace: Progress and crisis // Perspectives on Politics. 2017. Vol. 15, no. 3. P. 697-710. https://doi.org/10.1017/S1537592717000913.