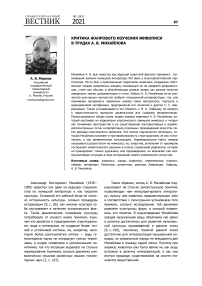Критика жанрового изучения живописи в трудах А. В. Михайлова
Автор: А. В. Марков
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.
Бесплатный доступ
Михайлов А. В. был известен как ведущий советский филолог-германист, толковавший явления немецкой литературы XIX века в культурологической перспективе. Но он был и оригинальным теоретиком живописи, создавшим собственную теорию живописных жанров, основанную не на предмете репрезентации, стиле или обычае, а обособляющую разные жанры как разные попытки преодолеть кризис репрезентации и стиля. Работы А. В. Михайлова из-за множества культурных контекстов требуют специальной интерпретации: так, для понимания натюрморта привлечен анализ связи натюрморта, портрета и средневековой метафизики, предпринятый его коллегой и другом С. С. Аверинцевым. Также устанавливается его близость к М. А. Лифшицу по вопросу о недостаточности принципа удовольствия для создания репрезентации. Реконструируется общая схема теории жанров живописи А. В. Михайлова, который настаивал на корреляции классического принципа мимесиса и «хоры» как понимания пространства и на существовании альтернативных и взаимодополнительных логик интерпретации отдельных произведений искусства после распада классического мимесиса. Эти логики подчиняются метаязыку, который Михайлов понимает в противоположность структурализму не как статическую, а как динамическую конструкцию. Индивидуальные черты жанров оказываются результатом не мимесиса, но, напротив, уклонения от чрезмерно поспешного миметического решения в пользу социальной рефлексии, которая не принадлежит только художнику или произведению, но возникает как коммуникативная ситуация в ходе историзации самого живописного искусства
Живопись, жанры живописи, герменевтика, портрет, пейзаж, натюрморт, Ренессанс, романтизм, реализм, Аверинцев, Лифшиц, А. В. Михайлов.
Короткий адрес: https://sciup.org/14119690
IDR: 14119690
Текст научной статьи Критика жанрового изучения живописи в трудах А. В. Михайлова
Александр Викторович Михайлов (1938— 1995) известен как один из ведущих специалистов по немецкой литературе и как теоретик культуры. Основной его заботой была не столько историчность культуры, сколько процедуры историзации [9, c. 30], как именно культура себя выстраивает в качестве исторического факта. Такое динамическое понимание культуры потребовало от ученого иначе понимать язык, чем это делается в традиционном структурализме, видя в метаязыках не создание более точной и устойчивой системы, но, напротив, некоторую более расплывчатую оптику — ведь гуманитарные науки не оперируют только терминами, а скорее символами и усложненными понятиями, так что метаязык выражает не столько нормирование терминов, сколько динамику символических смыслов различных языков гуманитарных наук [2, c. 222].
Таким образом, метод А. В. Михайлова подразумевает не столько реконструкцию понятий, позволяющих нам интерпретировать литературу, музыку или живопись предшествующих эпох в соответствии с культурными установками того времени, сколько исследование той динамики развития культурных форм, в которой появлялись эти понятия. В музыковедении Михайлова каждая музыкальная вещь объяснима как звено в цепочке достаточных для развития музыкальной культуры произведений в данную эпоху [8, с. 410], поскольку понятий данной эпохи достаточно для интерпретации музыкальной новации, но живописные жанры не вмещаются для Михайлова в границу одной эпохи. Поэтому при анализе живописи ему было важно не как вещь встроена в цепочку интерпретаций, а как она внутри процедур существования на холсте становится вещественной.
Для теории А. В. Михайлова, как и его коллег, прежде всего С. С. Аверинцева, несомненно влияние А. Ф. Лосева, создателя своеобразной платонической культурологии, объясняющей не только влияние идеи на вещь, но и такое же, оставляющее след и отпечаток, влияние одной философии на другую философию [10, c. 82]. Просто для Михайлова философская гипотеза Лосева о роли платонизма в культуре стала методом работы с материалом, противопоставляющим систематизации понятий и форм поведения более общие режимы созерцания само-развертывающихся культурных принципов.
Этот метод вполне проявился в рассуждениях ученого о привычных жанрах живописи, как портрет, пейзаж и натюрморт, не как о выражении некоторых идей о природе, но как о продуктах секуляризации оптики, результатом которой становится совпадение эффекта наслаждения и эффекта реальности. Так, Михайлов, разбирая один из разговоров Эккермана с Гёте [4, c. 125], указывает на момент антиисторизма Эккермана, предшествующий утверждению канонического историзма XIX века: Эккерман указал своему учителю на пейзаж Рубенса как на живой, отличающийся предельным жизнеподо-бием и как будто выполненный самой природой. Здесь Эккерман не просто выносит за скобки все барочные конструкции, важные для Рубенса и имеющие автономный смысл; он принимает версию одушевленности природы, которая тем самым как будто уже располагает передаваемым нам композиционным мышлением. Гёте удачно ответил Винкельману, что на самом деле природа не умеет быть поэтичной, иначе говоря, у природы нет такого устройства памяти, которое есть у живописца, который, вспоминая те или иные элементы и образы природы, вдохновенно отдает мгновенный приказ, исполняемый сразу же кистью. Таким образом, поэтичность для Гёте — прежде всего особое устройство памяти, позволяющее легко переносить образы на холст, особое созерцание всего памятного, которое и при своем воплощении обгоняет технические ухищрения.
Хотя в цитируемой статье Михайлова примеры и образы слишком заслоняют теоретическую схему, так что ее не сразу можно разгадать, его позиция реконструируется, если мы будем учитывать общий его метод. Если эффект реальности в связке с эффектом удовольствия поддерживается только поэтической памятью отдельного живописца, то тогда то самое молчаливое равновесие оказывается неустойчивым — Михайлов заметил, сколь неустойчивой была реалистическая живопись с ее конфликтом идеализации и репрезентации [4, c. 136].
Поэтому наш исследователь предложил такую схему для понимания живописных жанров: изначально система живописных жанров поддерживалась классическим представлением о месте, «хоре» [4, c. 134], которое до конца не может быть отторгнуто от вещи, которое и составляет ее уместность. Но пространственное мышление зрителя уже современного, далекого от античного типа культуры, не подразумевает принятия таких пространств. Поэтому появляется другая механика порождения живописных жанров: связывание вещей и их расстановка с помощью некоторого «синтаксиса», той связи вещей, которая и может заменять эту поэтическую память.
Где живописец принимает этот новый образ пространства, там и возникает романтическая живопись, как у Каспара Давида Фридриха, обособляющая отдельные вещи природы и искусства внутри некоторого воздуха , где иллюзия естественности пространства и создает иллюзию простора вещей. Если во времена «хоры» в античной и вообще классической культуре, пишет Михайлов [4, c. 129], проблемой были сами вещи, то для романтической живописи вещи не являются проблемой, проблема — только синтаксис вещей внутри жанра, иначе говоря, та композиционная инерция, которую надо преодолеть. С точки зрения новой оптики старый натюрморт, будь то античный помпейский или фламандский, слишком заполнен вещами, слишком переполнен, и реформа романтизма состоит не в том, что он заменил некоторую принудительную композицию свободной, а в том, что любая композиция была понята как принудительная, и только определенная работа с пространством может разрядить эту обстановку.
При этом с утратой «хоры» перестает быть проблемой синтаксис вещей, осуществляемый независимо от жанров, как осуществлялось пер-спективистское мышление с эпохи Возрождения. В эпоху романтизма оно начинает пониматься как естественное, как часть выучки живописца, а не стоящая перед ним задача. Вещь тогда становится проблемой в том смысле, что окончательно теряет себя, как в реализме, где ее репрезентативность растворяется в ожиданиях увидеть некоторое органическое целое, пережить картину вообще, а не отдельные вещи на ней. Таким образом, для А. В. Михайлова история искусства XIX века — это история по сути опережающих ожиданий зрителя вместе с неко- торой утратой той поэтичности, о которой мечтал Гёте.
Михайлов развивает мысль Аверинцева [1, c. 381], который тоже говорил о своеобразной секуляризации как причине появления жанров с их эффектами наслаждения. Согласно Аверинцеву, натюрморт был одним из полюсов самоопределения новоевропейской живописи, другим полюсом были портреты. Последние всегда возвышали героя, создавая антураж и декорируя само появление героя, даже если он появляется так, что сидит перед нами, и декор поэтому никак не обоснован логикой сцены. Полюса оказываются разнесены и географически, представляя собой форму и судьбу двух разных возрождений, итальянского и северного. Натюрморт, наоборот, не декоративен, а предметен, он сам создает сцену, будучи частью обстановки. Предмет в натюрморте не расходует свой ресурс на поддержание сложного декора композиционного целого, но, напротив, оказывается частью обстановки как будто жанровой сцены, обеспечивающей спокойствие более сложным воображаемым сценам.
Иначе говоря, в рассуждении Аверинцева портрет итальянского маньеризма поддерживает объективное воображаемое, роскошь, которая если не умещается на холсте, то лишь в силу композиционной уместности, тогда как голландский натюрморт — наоборот, субъективное воображаемое, которое требует переходить от эмоции спокойствия при виде низких вещей к полю, где субъект сам только и найдет себя уместным. Но Аверинцев ищет в живописи место, где воображаемого нет, и находит это у Ван Эйка, где обстановка дома не декоративная, но и не бытовая, и существует в том режиме, в котором существуют вообще удачные сочетания. «Таинство бытия молчаливо живет в них, так же, как в собачке, ничуть не меньше, чем в самих супругах Арнольфини; и через них знаменуется некий частный вид этого таинства, а именно таинство брака» [1]. Здесь Аверинцев и увидел метафору средневековой эстетики, для которой способность вещи к бытию и была способностью к доброкачественности. Именно эта картина вызвала колебания Лотмана, речь ли о саморазоблачении живописной иллюзии или о ее намеренном создании [7, c. 305, сноска 50], тогда как метод Аверинцева подразумевал, что любая живописная иллюзия разоблачена самими процедурами развертывания субъективного или объективного чувства при виде живописи.
Таким образом, вывод и Михайлова, и Аверинцева прост — живописные жанры возникают не как способы простой классификации, не как соответствия «терминам» в науке, но как динамические образования, позволяющие внутри них возникнуть или угаснуть той или иной подлинности: подлинности переживания пространства, подлинности ощущения того, что вещь сбылась прямо здесь и сейчас, или подлинности убеждения, что твой декор (честь) вполне достойны тебя. Как только эти динамические образования перестают выводить само «таинство бытия», как только поэтическая память перестает распоряжаться всеми возможными видами репрезентации, опережая различные их жанровые отложения, так оказывается необходимым закрепление отдельных жанров как создающих эффект удовольствия, свидетельствующий о наличии в мире некоторых прямых эффектов реальности.
Такое понимание закрепления жанров, как блокировавшего скорое поэтическое воображение ради взаимодействия искусств в длении эффекта удовольствия и эффекта реальности, проявилось во многих статьях А. В. Михайлова. Так, анализируя перевод Фетом знаменитого стихотворения Шиллера «Боги Греции», Михайлов заметил, что Фет уже был достаточно равнодушен к тем устойчивым, называемым по именам фигурам, которые и делали античную мифологию способом проверить подлинность поэтического вдохновения, насколько действия современного поэта похожи, например, на действия Орфея. Иначе говоря, Фет, будучи почитателем Гёте, уже не придерживался программы Гёте, высказанной Эккерману. Комментируя строку
Загрустя, повымерли долины
(в оригинале: Ausgestorben trauert das Gefilde),
Михайлов заметил, что «едва ли ошибемся, если скажем, что в этой строке сказался самый интимный, самый задушевный опыт русского восприятия природы во второй половине XIX века, — для пушкинской поры это стих слишком теплый и почти недопустимо личный; это восприятие природы после Первой симфонии Чайковского, и такой стих прекрасно подошел бы к ней, коль уж скоро композитор подыскивал для ее частей поэтические эпиграфы» [6, c. 439]. Эмоциональный стиль Чайковского выражается в поэзии в том, что аффективно насыщенное употребление одного слова, его как бы многогранная метафоризация, приводит к переносному употреблению соседнего слова — мы уже не созерцаем мертвую долину буквально как засохшую и напоминающую о смерти, а, напротив, смотрим, как долины могут не быть мертвыми и не быть грустными в нашем смысле, только играя на наших глубинных эмоциях и ассоциациях. Перед нами возникает именно автономия пейзажа, как могла бы в другой строке возникнуть автономия портрета или натюрморта.
Вскоре после статьи о натюрморте Михайлов опубликовал интересное послесловие (подписав его инициалами) к републикации рецензии М. А. Лифшица, ведущего советского эстетика-неомарксиста, на путевые дневники Мариэтты Шагинян [3]. Рецензию Лифшица Михайлов, публицистически преувеличивая, называет единственной «хорошо и прочно забытой» [5, c. 168] работой философа (хотя как раз наоборот, она, будучи опубликована в 1954 году в «Новом мире» Твардовского, наделала много шума), но видит в ней текст исключительно актуальный для перестройки, некоторую инструкцию для починки системы управления. Михайлов увидел в статье Лифшица то, что мы бы назвали позитивной самоцензурой: умение не говорить о многом, о чем говорить нельзя, но не с целью скрыть главную мысль, а с целью объявить ее так, что сам текст кричит именно об этом. Эта мысль и была выявлена Михайловым как публицистом, а не критиком: крайний упадок самой системы управления, то состояние принятия решений в 1954 году, которое вполне было достойно такого восторженно-нелепого активиста, как Шагинян.
Получается, что Лифшиц, не имея возможности критиковать былые методы управления хозяйством, останавливаясь на тексте Шагинян, выступает обличителем в самый момент отказа от социально-политической контекстуализации рассматриваемого текста: «На статье М. А. Лифшица лежит след эпохи и ее условностей: автор словно не замечает и не чувствует того, что кричащая безответственность досужей сочинительницы была вполне достойна ее окружения, — если только верно, что равное стремится к равному. Ложная восторженность порождалась ложью жизнеустройства и слепо и самодовольно ее воспроизводила. <...> М. А. Лифшиц как бы не замечал знаменательного схождения писателя-дилетанта с его обществом. Но вместе с тем общество — то, которое достойно этого писателя и которое произвело его на свет и бессознательно сформировало, воспитало, — ясно видно в облике такого писателя» [5]. Тем самым текст Лифшица показывает, как непоэтическая попытка воспроизвести поэтический мимесис приводила не к выявлению, а к смешению жанров. Сам дневник — это смешанный жанр, но и ос новная идея книги Шагинян — возможность силой мысли переделывать природу вокруг и природу человека, перевоспитывать других и себя, напоминающая биологию Т. Д. Лысенко, — оказывалась для него прежде всего примером беспамятства.
Пафос рецензии Лифшица был направлен против главной мысли Шагинян — способности техники усиливать чувство природы, когда, например, колхозник, увидев трактор на гусеничном ходу, становится внимательнее и к гусеницам, и к коням, начинает с большой эмпатией замечать в животном мире то, что увидел реализованным в технике [3, c. 161]. Способность техники быть почти живой, яростной, приобретать свой характер оказывается той миметической петлей, которая захватывает явления, до этого понимавшиеся плоско и морально. Лифшиц отвергает такие построения, просто указывая на ограниченность природных метафор, применяемых к технике: например, гусеничный ход подразумевает просто движение цепи, но не те упругие движения и замирания, которые проделывает гусеница и которыми любуется сама Шагинян, а лошадиная сила связана с использованием лошадей на шахте, промышленным их угнетением, а вовсе не их красотой и развертыванием природных возможностей.
Само название книги Шагинян, говорившее не о предметном опыте, а о жанровом каноне, определяло содержание: это обработанный дневник командировок писательницы-активистки, которая знакомилась с современными отраслями хозяйства и делала замечания, почему само развитие этих отраслей стало возможно. В этом «Дневнике писателя» ничего не говорилось о проблемах хозяйства: недостатки как управления и организации производства, так и исполнения распоряжений на местах оказывались не так значимы в сравнении с произошедшим впечатляющим становлением производства в разных сферах, включая сферы наибольшей близости человека с природой. Предметом книги было только экспертное знание: как агрономы, инженеры шахт, специалисты по питанию определяют развитие отрасли, позволяя отраслям работать не хуже, чем работает природа как таковая. Таким образом, позиция Шагинян как бы зеркально противоположна позиции Гёте — у нее поэтическим вдохновением обладает природа, способная сцепить природные и человеческие достижения в ту композицию, в которой всё обоснованно заработает.
Работа отрасли мыслилась двояко — как ее успех, повышение надоев или добычи и как об- живание, способность людей породниться с этой отраслью и обеспечить мирный быт людей, служащих этой отрасли. Интересно, что при этом патетических лозунгов и штампов в этой книге немного, поскольку суждения экспертов определяют содержание жизни каждого очередного посещаемого города или колхоза, и считывание этих суждений заменяет знакомство с лозунгами. В дневниковом изложении эффект успеха возникал сам по себе: всегда можно было спросить эксперта в специально запланированном интервью или случайном разговоре, который объяснил бы, благодаря чему надои повысились. Тогда как обживание тайги или шахты было уже проблемой, и здесь писательница и видела возможности для своего вмешательства — давая советы, одобряя энтузиазм и энтузиастические произведения, другими словами, создавая ту сетку речевых иллюзий, уже не принадлежащих только ей самой, которая делает любое движение внутри быта закономерным обживанием быта, например, упорный труд без выходных, и позволяет просто жить, а не подчиняться регламентам будней и выходных. Таким образом, в книге Шагинян создавался режим, противоположный «хоре», — именно люди, обживающие землю, только и создавали эту «хору» для отдельных своих вещей и чувств, чтобы потом всякая попытка наслаждаться природой и поймала их в миметическую петлю трудового энтузиазма — Шагинян этот режим одобряла, тогда как для Лифшица этот энтузиазм всегда был направлен только на частности, на отдельные жанры. Например, когда Шагинян пишет, что здание МГУ на Воробьевых горах вдохновляет на полет, рецензент сразу обвиняет ее и в покушении на человеческие чувства, заявляя, что ему не очень хочется чувствовать себя в здании как в самолете и указывая на привилегии жителей пятиэтажек, которым тоже хочется летать и быть людьми будущего [3, c. 156]. Иначе говоря, он противопоставляет миметической петле аналитизм, показывающий, как возникает в искусстве уместность (как себя чувствуешь в здании), но и как возникает жанровое мышление, в котором есть сцены, в духе жизни обитателей пятиэтажек, которые не могут быть сведены к расширенно понятой поэтической мечте, но требуют своего собственного разыгрывания.
Чтобы сделать режимы тотального вдохновения оправданными внутри повествовательного целого, совместимыми с неизбежной небрежностью и спешностью дневниковых путевых заметок, писательница-активистка постоянно указывала на то, что люди уже вовлечены в при- родную жизнь, что люди, работая с техникой и изобретая ее, постоянно подражают природе, и значит, если понять законы работы техники совместно, в разговоре с этими людьми, тогда состоится настоящее понимание природы и причастность ей. Например, для подъема машины колеса обвязывают цепями, это позволяет ей двигаться вверх по скользкой поверхности с ловкостью животных [3, c. 147]. По сути, Шаги-нян пишет о миссии техники; и опять же вместо развернутых сравнений часто в наречиях или междометиях, всех этих «ловко» и «умело», и выражается эта мысль о стремлении техники подражать природе, благодаря чему энтузиастичные пользователи техники и могут участвовать в самой природной жизни, если они вовремя будут артикулировать связанные с этим переживания. Но где Шагинян видит природу, там ее рецензент видит пейзаж, попытку создания некоторого разделяемого удовольствия от природы, в котором общение людей и позволит ввести какие-то отдельные технические новации. Тогда как для Лифшица такие новации оказываются надуманными или принадлежащими уже имеющимся терминологическим порядкам, например, знанию сопротивления материалов, иначе говоря, перед ним заблуждение Эккермана о Рубенсе в худшем виде.
Михайлов говорит, что и книга Шагинян, и критика Лифшица стали возможны именно из-за того, что в 1954 году еще были разделяемые представления о том, как нормально руководить экономикой, которые Шагинян атакует своим эмоциональным напором, а Лифшиц ожидает от читателей его рецензии. В последующие годы, согласно Михайлову, система управления стала деградировать так, что оказалась вполне достойной такой литературы, — разрыв между нормой и эмоцией оказался преодолен общим волюнтаризмом и самодурством управления, которому и отвечала очерковая литература обо всем и ни о чем. «Произошло следующее — такому писателю стало легче жить; с него сняли и страх, и последнюю дозу писательской, опять же профессиональной ответственности. Писателю, так настроенному и так направившему свое творчество, стало проще узнавать себя в своем (достойном его) обществе и наоборот. Давивший культуру ужас исчез в своей непосредственности, но культура продолжала падать, снижаться» [3]. Это ключевые слова рассуждения А. В. Михайлова — культура, которая была заворожена страхом, в какой-то момент оправляется от этого страха, но ценой полного собственного распада, и здесь любое искушение дей- ствует уже не просто как соблазняющее, а как разрушающее.
Итак, для Михайлова текст Лифшица важен тем, что показывает, как бесстильность и безответственное письмо стали идти бок о бок со столь же самонадеянным и самовлюбленным управлением, не способным к артикуляции действительных проблем, к их высвечиванию; иначе говоря, каким образом язык научился обходиться без того самого динамического метаязыка эстетики, который и позволяет узнать, при каких условиях обособились отдельные жанры, такие как пейзаж. Поэтому послесловие А. В. Михайлова заканчивается вполне перестроечной риторикой тревожного обличения с требованием принять неотложные меры: «М. А. Лифшиц показал симптом страшных недугов, овладевших обществом» [там же], таких как самонадеянность, иллюзия всезнайства, неумение согласовывать решения и организовывать экспертное взаимодействие, другими словами, неумение как бы населять мир природы, видеть, какому именно субъекту доступен такой-то пейзаж или такой-то портрет.
Таким образом, А. В. Михайлов, анализируя границы мимесиса, установил корреляцию меж- ду миметическим принципом и «хорой», что и позволило ему отвергнуть ложные способы мимесиса, в частности, солидаризуясь с М. А. Лифшицем по вопросу о том, могут ли комбинированные жанры, такие как путевые заметки, различить домены природной и социальной жизни. Автономия видов живописи для него не результат специфики заказов, а результат кризиса той связки принципа реальности и принципа удовольствия, которая в классической программе поддерживалась системой риторических условностей. На место этой связки приходит корреляция жанрового самоопределения и этической позиции, возникающей в результате взаимодействия паттернов искусства и замыслов художника, и эта корреляция поддерживается энергией распада классических режимов репрезентации. Появляются новые режимы репрезентации, каждый из которых получает свой смысл в гуманитарных науках только тогда, когда мы понимаем поэтическое усилие, основанное на памяти и воображении, не как индивидуальное усилие, но как единственный эффект метаязыка, единственное его непосредственное практическое приложение к конкретному материалу.
Список литературы Критика жанрового изучения живописи в трудах А. В. Михайлова
- Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики / С. С. Аверинцев // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. — М. : Наука, 1975. — С. 371—382.
- Андреюшкина Т. Н. Восприятие и развитие идей А. В. Михайлова российскими учеными / Т. Н. Андреюшкина // Филологический класс. — 2019. — № 2(56). — С. 220—224.
- Лифшиц М. А. Дневник Мариэтты Шагинян / М. А. Лифшиц // Контекст 1989. — М. : Наука, 1989. — С. 129—167.
- Михайлов А. В. Судьба вещей и натюрморт / А. В. Михайлов // Вещь в искусстве. — М., 1986. — С. 125—139.
- Михайлов А. В. [Послесловие к публикации] / А. В. Михайлов // Контекст 1989. — М. : Наука, 1989. — С. 168—169.
- Михайлов A. B. A. A. Фет и Боги Греции / А. В. Михайлов // Михайлов A. B. Обратный перевод. — М., 2000. — С. 422—443.
- Сечин А. Г. Иконическая риторика в картине Александра Иванова «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару» / А. Г. Сечин // Искусствознание. — 2015. — Т. 1 , № 1 -2. — С. 278—307.
- Чигарева Е. И. Слово и музыка в трудах А. В. Михайлова / Е. И. Чигарева // Традиции и перспективы искусства как феномена культуры. — М., 2016. — С. 403—412.
- Юрченко Т. Г. «Историческое движение подчиняет искусство своему языку...»: новый историзм А. В. Михайлова и проблемы науки о литературе / Т. Г. Юрченко // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7: Литературоведение. Реферативный журнал. — 2020. — № 1. — С. 28—35.
- Юстина К. Роль А. Ф. Лосева в формировании взглядов С. С. Аверинцева на русско-византийские культурные связи / К. Юстина // Соловьевские исследования. — 2017. — № 3(55). — С. 78—87.