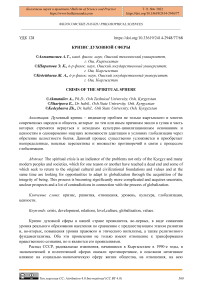Кризис духовной сферы
Автор: Акматалиев Асанбек Тургунбаевич, Шарипова Эркайым Козуевна, Кедейбаева Жамал Арстаналиевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
Духовный кризис - индикатор проблем не только кыргызского и многих современных народов и обществ, которые по тем или иным причинам зашли в тупик и часть которых стремятся вернуться к исходным культурно-цивилизационным основаниям и ценностям и одновременно ищущих возможности адаптации в условиях глобализации через обретение целостности бытия. Данный процесс существенно усложняется и приобретает неопределенные, неясные перспективы и множество противоречий в связи с процессом глобализации.
Кризис, развития, отношения, уровень, культура, глобализация, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/14123499
IDR: 14123499 | УДК: 128
Текст научной статьи Кризис духовной сферы
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 128
Кризис духовной сферы в нашей стране проявляется, во-первых, в виде снижения уровня реального образования населения по сравнению с предшествующим этапом развития и, во-вторых, повышения уровня правового и этического нигилизма, а также религиозного фундаментализма. Оба эти проявления не только имеют отношение к трансформации нравственного сознания, но и являются его проявлениями.
Распад СССР, радикальные изменения, начавшиеся в Кыргызстане в 1990-е годы, в экономической и политической сферах оказали противоречивое, в основном негативное влияние на социально-экономическую сферу жизни общества, на отношения, на всю социальную структуру общества. Но поскольку кризис принял системный характер, не осталось в стороне и нравственная сфера. Общество, отказавшись от прежних коммунистических ценностей и идеологии, но, не успев выработать новые и не успев адаптировать традиционные ценности под современные условия, неизбежно оказалось в состоянии нравственно-этического кризиса.
С распадом СССР в Кыргызстане возникла ситуация, когда практически отсутствовали духовные ориентиры. Построение гражданского общества, рыночной экономики, основывающиеся на либеральных западных ценностях, были скорее целью и одновременно техническими средствами достижения этой цели, чем ценностями в полном смысле этого слова. Во всяком случае, эти ценности явно входят в противоречия с традиционными ценностями кыргызского народа и, соответственно, с его представлениями о нравственности, нравственным сознанием.
Духовный кризис общества, в целом, – это распад культурных основ общества, которые мыслятся и переживаются в сознании общества в настоящий период времени как нарушение целостного мировосприятия. Однако следует иметь в виду, что это преодолимое состояние. И проблема, следовательно, не в конечном итоге, а в том, каким образом он будет преодолен и когда именно это может произойти. Духовный кризис может быть выражен через понятие ценность или «кристалл культуры» в неразрывной связи с понятием смысл, которые деформированы и переживают переходный период, отражаясь на всех сторонах жизни общества.
В 1968 г. был создан Римский клуб, который заложил основы современной глобалистики. К концу 1980-х гг. глобальная проблематика стала составной частью общественного сознания, в том числе и философского, а внимание к данной теме постоянно нарастало. Данная тема стала предметом анализа множества философских форумов и конгрессов. Однако по-настоящему философы всего мира заговорили о глобализации на следующем в XXI веке. Одним из первых таких конгрессов стал всемирный философский конгресс «Философия лицом к глобальным проблемам». Он проходил в Стамбуле в 2003 г., и на нем было заявлено о необходимости объединить усилия всех народов в противостоянии глобальным угрозам. В процессе работы конгресса наряду с термином «глобализация» употреблялись понятия «глобальная система», «глобальная ответственность», «мировые проблемы», «глобальные институты», «глобальная справедливость», «глобальный капитализм», «глобальный век» и др. [2]. На XXII Всемирном философском конгрессе «Переосмысливая философия сегодня», состоявшемся в Сеуле в 2008 г., вышли на первый план темы глобализации и космополитизма, гражданского общества и мировой цивилизации, национальной идентичности и глобального мировоззрения [3].
В результате анализа Всемирных философских конгрессов выяснилось, что современный мир вышел на такой уровень своего развития, что не может дальше развиваться без должного регулирования, управления. Поэтому морально-правовое регулирования – это основа глобализирующихся обществ, вектор развития которых – это нормальное сосуществование на планете Земля мирового сообщества в его аспектах общество – природа и человек – общество. Такая оценка процесса глобализации предполагает помимо прочего изменение нравственных основ существования человечества, которое, если оно хочет выжить, должно, как минимум, выработать общие ценностные основы.
Современный российский философ А.Н. Чумаков, проанализировав глобализацию, пришел к следующему заключению: «Хотя глобализация и стала объективным фактором общественного развития со второй половины XIX в., исследования глобальных процессов и их последствий, именуемых глобальными проблемами современности, начались лишь столетие спустя» [3]. А.Н. Чумаков подчеркивает, что существует «теснейшая связь взаимообусловленных и взаимодополняемых понятий «культура», «цивилизация», «глобализация» и, самое главное, стоящие за ними явления, и сегодня все еще в должной степени не осознаются и пока не стали предметом специального анализа» [3].
В.С. Степин обратил внимание на определенную связь между современными глобализирующимися обществами и ценностными трансформациями, неизбежно происходящими в процессе глобализации. «Ценности, – пишет он, – санкционируют тот или иной тип деятельности и присущие ему цели. И тогда вопрос о стратегии развития современной цивилизации трансформируется в проблему ценностей и их изменений. Философия способна вырабатывать ядро новых мировоззренческих ориентаций и предложить их культуре. И культура сама потом отбирает, что и какую эпоху ей может понадобиться» [1]. По его мнению, «метод развития науки показывает, что метод исследования оказывается плодотворным тогда, когда он адекватен характеру исследуемого объекта и соответствует определенной стадии его изучения» [1]. Для исследования явлений и процессов современных глобализирующихся обществ выступает, как полагает В.С. Степин, «материалистическая диалектика, которая играет роль метода исследования, причем не только по отношению к конкретным наукам, но и к самой философии» [1]. В условиях плюрализма научных теорий и концепций, материалистическая диалектика, на наш взгляд, является той связующей, объединительной и постоянно развивающейся, эффективной теоретико-методологической базой исследования современных явлений и процессов глобализирующихся обществ.
С другой стороны, В.С. Степин предлагает продуктивный подход, основывающийся на анализе современных цивилизаций. Он справедливо указывает: «Актуальной является установка на исследование научной рациональности в ее исторической эволюции, включая изменение типов внутринаучной рефлексии и форм методологического знания. Сегодня эта идея обретает новые смыслы в связи с ситуациями переломов в цивилизационном развитии» [5], и поэтому имеет смысл говорить «о третьем типе развития, не сводимом ни к традиционалистскому, ни к техногенному» [1]. Такой переход должен означать изменение самих оснований социокультурного кода техногенной цивилизации, трансформацию ее базисных ценностей. Разрешение противоречий культурного и технического характера между цивилизациями техногенного и традиционного типа В.С. Степин видит в «диалоге культур», которые составляют духовное ядро этих цивилизаций. По его мнению, «глобализация – это реальный процесс, где должен быть изменен сам тип цивилизационного развития. Суть этого изменения состоит в необходимости перехода от односторонних установок на властное доминирование к диалогу культур» [2].
В настоящее время существует множество признаков того, что человечество оказалось на пороге исторически третьего после традиционного и техногенного типов цивилизационного развития, которое потребует духовной реформации и пересмотра ряда прежних базисных ценностей техногенной культуры: отношение к природе, культ силы и деструктивных инноваций, идеалы потребительского общества, основанного на росте вещноэнергетического потребления, и др. Однако, учитывая заслуги и возможности техногенного развития общества в целом, а кроме того, непрерывное и ускоренное развитие техногенной цивилизации, придется адаптировать ценности техногенного развития и обрести новые его измерения.
Следует отметить, что одной из важнейших особенностей современной эпохи, характер и направление развития которой определяет процесс глобализации, является то, что преодоление нравственно-этического кризиса теснейшим образом связано с преодолением экологического кризиса и созданием устойчивой и благоприятной биосферы на всех ее уровнях – локальном, региональном и глобальном. В строгом смысле невозможно решить нравственно-этические проблемы, не решив при этом экологические. В настоящее время человечество наносит такой существенный ущерб природе, что это уже угрожает самому существованию человеческому виду. Настало время решительных природоохранных мер, направленных на сохранение естественных как региональных, так и локальных экосистем, основанных на современных высокотехнологичных достижениях с корреляцией, взаимной зависимостью двух векторов – техногенного и традиционного. Это будет не западная и не восточная система ценностей, а нечто третье, синтезирующее достижения современной техногенной культуры и некоторых идей традиционных культур, обретающих сегодня новое понимание. В настоящее время стало возможным проектирование не только социальноэкономических, а сложных систем, в которых могут быть учтены особенности природной среды, в которую будут внедряться соответствующие технические средства, а также особенности социокультурной среды, внедряющей эти средства. Как показывает опыт, на всех переломных этапах развития тех или иных социумов, народов и целых цивилизаций почти всегда возникает необходимость в создании новой системы ценностей либо радикального ее преобразования. Их поиск должен идти так, чтобы каждая цивилизация, каждая культура это осознавала и вносила свою лепту. В наших же конкретных условиях процесса глобализации возникла необходимость диалога между цивилизациями или, что то же самое, диалоге культур, в процессе которого должен быть создан предсказуемый и сравнительно устойчивый мир, в котором не будет единственной, универсальной и приемлемой для всех культуры, а будет множество культур с характерными для них системами ценностей, которые, однако, не будут находиться в состоянии непримиримого противостояния и взаимного отрицания, как это было до сих пор продолжает отчасти быть. Соответственно, не будет одной цивилизации, а будет их несколько. Во всяком случае в обозримой исторической перспективе. Следует отметить, что объективно эти цивилизации, как и народы, являющиеся их носителями, всегда противостояли и продолжают в определенной мере противостоять друг другу, что обусловлено самой природой человека и неизбежной борьбой за ресурсы, которая, к сожалению, содержит в себе тенденцию к постоянному усилению. Имея в виду данную тенденцию и недавнее временное безусловное экономическое и военное превосходство Запада над остальным миром, известный американский социолог и политолог С. Хантингтон после распада СССР создал теорию «столкновения цивилизаций», которая, по сути, была теоретической базой для реальной американской политической практики, направленной на установления в мире абсолютного, никем не оспариваемого в мире доминирования США на планете. С. Хантингтона прежде мир делился на «три лагеря – капиталистический, социалистический и развивающийся (третий) мир» [2]. В современную эпоху формой проявления кризисных процессов в обществе должно быть, по мнению С. Хантингтона, выступать «цивилизационный разлом». «Сейчас гораздо уместнее группировать страны, – утвержадет С. Хантингтон, – основываясь не на их политических или экономических системах, не по уровню экономического развития, а исходя из культурных и цивилизационных критериев» [2]. Цивилизация же, по его мнению, «представляет собой некую культурную сущность. Мы можем определить цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей… Цивилизации определяются наличием общих черт объективного порядка, таких как язык, история, религия, обычаи, институты, – а также субъективной самоидентификацией людей… Цивилизация – это самый широкий уровень общности, с которой он себя соотносит. Культурная самоидентификация людей может меняться, и в результате меняются состав и границы той или иной цивилизации» [4]. По мнению С. Хантингтона, идентичность на уровне цивилизации «будет становиться все более важной, и облик мира будет в значительной мере формироваться в ходе взаимодействия семи-восьми крупных цивилизаций» [3]. Если «в классовых и идеологических конфликтах, – писал С. Хантингтон, – ключевым был вопрос: “На чьей ты стороне?” И человек мог выбирать – на чьей он стороне, а также менять раз избранные позиции. В конфликте же цивилизаций вопрос ставится иначе: “Кто ты такой?” Речь идет о том, что дано и не подлежит изменениям» [3].
В связи с последним утверждением С. Хантингтона возникает правомерный вопрос, что именно не подлежит в человеке изменению с культурологической точки зрения? Практически любой отдельной взятый человек, будучи изъятым с детских лет из одной – родной – культурной среды и погруженный в другую, может полностью адаптироваться к последней и впоследствии воспринимать ее как свою. Глобализация же с сущностной точки зрения как раз является процессом стирания культурных различий путем создания единого в масштабах всей планеты культурного пространства, в котором современные культуры будут представлены в различных пропорциях, а многие, по всей видимости, вообще исчезнут. С субъективной точки зрения, при таких условиях становится важным не вероятность исчезновения той или иной культуры, а к какой именно группе культур следует отнести ту или иную конкретную культуру. Этнический или национальный эгоизм естественным образом стремится к утверждению и сохранению собственной культуры, даже в ущерб другим культурам. Именно данное обстоятельство делает возможным в будущем исчезновение большинства из ныне существующих этнических и национальных культур. Конфликт цивилизаций разворачивается на двух уровнях: «На микроуровне группы, обитающие вдоль линий разлома между цивилизациями, ведут борьбу, зачастую кровопролитную, за земли и власть друг над другом. На макроуровне страны, относящиеся к разным цивилизациям, соперничают из-за влияния в военной и экономической сфере, борются за контроль над международными организациями и третьими странами, стараясь утвердить собственные политические и религиозные ценности» [197, с. 39]
Противостояние цивилизаций усложняется и становится неотвратимой в связи с тем, что человечество, как об этом писали еще в девяностые годы прошлого века, Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рандерс «…находится за пределами роста. Использование сырьевых и энергетических ресурсов, накопление отходов промышленного производства превышают все возможные, физически допустимые нормы» [5].
Учитывая все вышесказанное о цивилизационном противостоянии, можно утверждать, что современный глобальный кризис во многом спровоцирован и обусловлен этим противостоянием, борьбой за ресурсы, господство и влияние в мире в условиях, когда Западная цивилизация стремительно утрачивает свои лидирующие позиции, а евразийские цивилизации испытывают стремительный подъем. Однако, несмотря на противоборство, одновременно растет их взаимозависимость, количество и качество связей, начиная от экономических, торговых и заканчивая информационными и культурными. Не говоря уже о необходимости совместного решения глобальных проблем, связанных с угрозами самому существованию человечества. В данной связи будет уместным упомянуть «геополитическую концепцию» 3. Бжезинского, который, настойчиво и последовательно проводя политику безусловного американского господства в мире, тем не менее писал следующее: «Современный мир отличается интерактивностью и взаимозависимостью. Ведущим державам ещё только предстоит выработать совместные пути решения новых растущих угроз человеческому благополучию – экологических, климатических, социоэкономических, продовольственных и демографических. Однако без опоры на геополитическую стабильность любые попытки добиться необходимого международного взаимодействия, обречены на провал» [3]. Другое дело – каким образом добиться этой стабильности, если народы и цивилизации находятся в той или иной степени конкуренции, противостояния.
В настоящее время существует теория глокализации, которая описывает современный этап глобализации как процесс экономического, социального, культурного развития, характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тенденций, когда процесс глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий приводит на деле не только к их сохранению, ни и нередко к усилению, на чем настаивают, в частности, Р. Робертсон [4]. По их мнению, современное общество развивается по двум указанным направлениям. Глобализация и локализация – это принципиально важные процессы, формирующие кризисное бытие современного общества, потому что они, с одной стороны, являются двумя сторонами одного единого диалектического процесса развития человечества, которые уравновешивают друг друга. С другой стороны, они обнаруживают кризисную природу взаимодействия общественного бытия и общественного сознания.
Суть процесса глобализации с точки зрения реального его содержания и практики достаточно точно и полно переданы современным российским философом К.О. Глазуновым, который пишет: «Социальная природа глобализма весьма разнородна. В культурноисторическом определении глобализм предстает как общечеловеческая культура, охватывающая национальные культуры во всех формах своего проявления. Общие проблемы современности являются следствием мировой сети технологических и экономических отношений, которая была создана экспансией деятельности западноевропейских народов за последние пять столетий. Технологические и экономические отношения порождают политические, этнические и религиозные отношения. Глобализм предстает как процесс, стремление к образованию “общей всемирной цивилизацииˮ» [1].
Глобализм представляет современную форму империализма и высшую ее стадию, которая «опирается не только на военную экспансию, но также на экспансию экономическую и культурную. Так закрепляется система несправедливого распределения ресурсов планеты: природных, трудовых, интеллектуальных. Процессы глобализации сопровождаются попытками установления господства богатой элиты над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины» [6].
Однако в силу определенного и подвижного баланса сил и ресурсов участников процесса глобализации и отсутствия у Запада необходимого для реализации своих целей потенциала, главным образом – людского, приводит к тому, что происходит взаимодействие и взаимовлияние различных культур, что должно в конечном счете открыть перспективы для новых стратегий развития человечества, основанных на общем мировоззрении, которые могут временами блокироваться противодействием экономических и политических властных структур. С другой стороны, распространение в планетарных масштабах идеологии потребительского общества и массовой культуры будет способствовать нарастанию экологического, антропологического и других глобальных кризисов. Но унификация вышеназванных типов культур, равно как и их механистическое взаимодействие, невозможно. Сегодня мир может быть изменен в результате установления диалога культур, но не за счет доминирования какой-то одной культуры (страны) в мире над всеми остальными [1].
При диалоге культур изменение нравственно-этических регулятивов и целей деятельности различных типов цивилизационных культур должно быть, по нашему мнению, непременным условием не только выживания, но и дальнейшего развития обществ, в том числе нашего.
Список литературы Кризис духовной сферы
- Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь. СПб., 2009. 811 с.
- Китаев-Смык Л. А. Организм и стресс: стресс жизни и стресс смерти. М.: Смысл, 2012. 463 с.
- Колесников В. Н. Признаки пробуждения духовности // Психология духовности. Липецк: ЛГТУ, 2001. С. 110-131.
- Золотарёва Ю. Кризис культуры и его определение в свете теории социокультурных трансформаций // Инновационная наука. 2016. №9. С. 36-362.
- EDN: WMWHLZ
- Карпинский К. В. Опросник смысл о жизненного кризиса. Гродно: ГрГУ, 2008. 108 с.
- Козлов В. В. Работа с кризисной личностью. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2007. 336 с.
- EDN: QXQTQJ