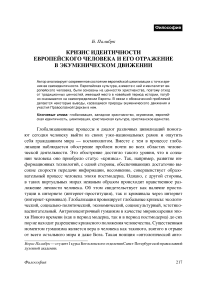Кризис идентичности европейского человека и его отражение в экуменическом движении
Автор: Палибрк Борис
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (43), 2012 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует современное состояние европейской цивилизации с точки зрения ее самоидентичности. Европейская культура, а вместе с ней и менталитет европейского человека, были основаны на ценностях христианства, поэтому отход от традиционных ценностей, имеющий место в новейший период истории, пагубно сказывается на самоопределении Европы. В связи с обозначенной проблемой делаются некоторые выводы, касающиеся природы экуменического движения и участия Православной Церкви в нем.
Глобализация, западное христианство, экуменизм, европейская идентичность, цивилизация, христианская культура, христианское единство
Короткий адрес: https://sciup.org/140189961
IDR: 140189961
Текст научной статьи Кризис идентичности европейского человека и его отражение в экуменическом движении
Глобализационные процессы и диалог различных цивилизаций помогают сегодня человеку выйти из своих узко-национальных рамок и ощутить себя гражданином мира — космополитом. Вместе с тем в процессе глобализации наблюдается обострение проблем почти во всех областях человеческой деятельности. Это обострение достигло такого уровня, что в сознании человека оно приобрело статус «кризиса». Так, например, развитие информационных технологий, с одной стороны, обеспечивающих достаточно высокие скорости передачи информации, несомненно, совершенствует образовательный процесс человека эпохи постмодерна. Однако, с другой стороны, в таких виртуальных мирах неявным образом происходит нравственное разложение личности человека. Об этом свидетельствует как наличие проституции в интернете (интернет-проституция), так и криминала через интернет (интернет-криминал). Глобализация провоцирует глобальные кризисы: экологический, социально-политический, экономический, социокультурный, эстетико-васпитательный. Антропоцентричный гуманизм в качестве мировоззрения эпохи Нового времени (как в период модерна, так и в период постмодерна) до сих пор не находит разрешение кризисного положения человечества. Существенным моментом гуманизма является вера в человека как такового, взятого в отрыве от всего остального мира и даже Бога. Такая позиция «онтологической авто
Борис Палибрк — студент I курса Богословского отделения Санкт-Петербургской православной духовной академии.
номии» человека открыла дверь созданию новой религии с культом человека 1 . Такому человеку пришлось эксплуатировать внешнюю природу с ее ресурсами и приписать себе свойства Самого Бога. Богатства природы больше не принадлежат ей, потому что человек стал верховным властелином всего земного бытия. Неотъемлемые свойства бытия Божия, такие как всесовершенство, независимость и всемогущество, отрываются от Бога и прикрепляются бытию человека. На этом фоне «сверхчеловек» не хочет критически осмыслить свою бытийную обстановку, которая нуждается в новой переоценке. Эта переоценка онтологического статуса должна указать истинное положение человека, его отношение с Богом и окружающим миром. Первый шаг в этом переосмыслении человеческого самопознания состоит в раскрытии причин, лежащих в основе нынешнего кризиса.
«Итак, в чем причина, что лежит в основе нынешнего кризиса? Я глубоко убежден: в основе всего — глобальный кризис личности. Выживание человечества зависит сейчас не столько от военно-политических преобразований и экономических реформ, не столько от усилий по улучшению существующих социальных систем, сколько от духовного и нравственного состояния человеческой личности»2. Такой подход, который предлагает Православная Церковь в лице митрополита (ныне Патриарха) Кирилла, для духовно расслабленного человека выглядит слишком натянутым, религиозно-романтически построенным, а не рационально обоснованным. Божественный свет, «который просвещает каждого человека, приходящего в мир» (Ин 1:9) не находит сегодня места в жизни человека, в частности, в жизни западноевропейского человека. Ведь рационалистический постмодернистский человек свет и просвещение связывает только с человеческим умом (ratio) и с человеческим творчеством, оправдывающимся и обосновывающимся этим самым умом. Один из важнейших тезисов гегелевской философии — все действительное разумно, все разумное действительно (философия права) — является основным кредо просветительского мировоззрения. Мышление отражает объективную реальность, а объективная реальность отражается в мышлении. В таком отношении эквивалент- ного характера ипостазируется истина. Этой истиной питается сегодня человек. Однако, фаустовско-эвклидовский ум, пресыщаясь предметами внешнего мира (гипертрофия научно-технического процесса) остается голодным, потому что человеческий ум ищет не предмет, не сущность, а смысл каждого предмета. Фаустовско-эвклидовский ум по необходимости объективирует человека, оставляя его во власти природных законов. Окованный этими законами, человек не может смотреть дальше истории, реальность трансцендентного и метаисто-рического становится полностью сокрытой от человека. Единственным местом для их существования становится область мифологического сознания, где они оказались в изоляции от человека, потому что человек техники утратил мифологическое восприятие мира.
Согласно изложенному, история как таковая, без своего высшего божественного τέλος (цели), представлялась человеку новой эпохи как разрешающий τόπος (место) всех экзистенциальных апорий. Корифеи европейского просвещения, такие как И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, стоят именно на этой позиции. Однако, может ли человек построить свою онтологическую идентичность на феномене исторического, не переходящего в метаисторию? Является ли человек только историческим существом, существом из этого мира, либо он все-таки принадлежит иному миру?3 Христианство отвечает на этот вопрос, исходя из апостольско-святоотеческого опыта. Какой бы то ни был вопрос, возникающий на почве человеческо-экзистенциальних апорий, решая его, христианство подходит к нему не через гипотетическую спекуляцию посредством человеческого разума, а через благодатно-аскетический опыт «во Христе». Самое главное, что христианство выводит человека из всех жизненных лабиринтов и мировоззренческих недоумений. Самыми страшными деперсонализирующими и разрушающими человека экзистенциальными антиномиями являются путь и беспутье, истина и ложь, жизнь и смерть. Но для христианства они оказались побежденными, так как только Христос для человека есть «путь, и истина, и жизнь» (Ин 14:6). Воплотившийся Бог Слово в Своей Богочеловеческой личности «неслиянно и нераздельно» соединяет Божественную (несотворенную) и человеческую (сотворенную) природы. Богово-площение разрешает наивысшее противоречие между, с одной стороны, вечно- трансцендентным Богом и, с другой стороны, смертно-имманентным человеком. Именно Богочеловек Христос упраздняет бесчеловечную метафизичность Бога — позицию индифферентности Бога к миру и человеку — и безбожную историчность, секуляризованость человека — позицию индифферентности человека к инобытию и Богу. До Его Воплощения наша человеческая природа была «мертва в преступлениях и грехах», распадалась в обманчивых желаниях, будучи отделенной от жизни Божией (Еф 2:2, 4:22, 18). Вот как об этом примирении всех человеческих апорий и конфликтов «во Христе» говорит современный православный богослов епископ Афанасий (Евтич): «В Своей Богочеловеческой личности Христос соединил и восстановил цельность человеческой природы, какой она была в Адаме до грехопадения, и более того: показал ее в Себе как Нового Человека (Еф 2:15), глава Которого — Богочеловек»4. Здесь необходимо подчеркнуть, что Богочеловек в прямом смысле слова является главой экклезиального, воцерковленного человечества. Ибо, как верно замечает апостол Павел, Бог (Отец) «все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви. Которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф 1:22, 23). Об экклезиальном характере Воплощения и Вочеловечения Божия прекрасно высказывается выдающийся русский богослов прот. Сергий Булгаков: «Церковь — дело Боговоплощения Христова, она — само это Боговоплощение»5.
Касаясь экклезиологических понятий, мы не можем обойтись без соте-риологических доктрин, коренящихся в Крестной Жертве Христа. Поэтому апостол Павел говорит: «ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор 5:7). Это значит, что Христос «умер за нас, за грехи наши, умер за всех, предав Себя для искупления всех» (Рим 5:8; 1 Кор 15:3; 2 Кор 5:15; 1 Тим 2:6), «значит, за всю Церковь»6, — добавляет еп. Афанасий (Евтич). Общеизвестно святоотеческое учение о перерождении и новом творении человеческой природы пролитой на кресте кровью Богочеловека. «Крещение Кровью» на Голгофе было крещением всецелой человеческой природы в Новом Адаме. Согласно выражению русского зарубежного богослова прот. Георгия Флоровского, это было «крещение кровью всей Церкви»7. Следовательно, Церковь целиком (экклези-альное человечество — тело Христово) и каждый отдельный христианин (уд, член Церкви и Христа) имеют основание идентичности своего бытия в Крестной Жертве. Посему справедливы слова: «без Голгофского креста Церковь Христова не была бы создана и не существовала»8. Апостол Павел говорит, «что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их» (2 Кор 5:19). На Кресте человеческая природа примирилась с Богом, и только такая богочеловеческая природа соответствует абсолютному назначению человека. В богословии Креста апостола Павла замечается трехчастная структура примирения человека с Богом и в Его лице со всем миром. Во-первых, примирение человека с Богом: «мы (люди) примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим 5:10; ср. Кол 1:21–22; 2 Кор 5:19). Во-вторых, примирение человека с ангелами, «чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кро-вию креста Его, и земное (людей. — Б.П.) и небесное (ангелов. — Б.П.)» (Кол 1:20). В-третьих, примирение человеческого рода с самим собой, то есть на Кресте Христовом примирились два народа: избранный народ иудеев и языческий народ эллинов, из которых создана Церковь. В подтверждении этого приведем слова апостола Павла: «Ибо Он (Христос. — Б.П.) есть мир наш, соделавший из обоих (народов) одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека (экклезиального человека. — Б.П.), устрояя мир, и в одном теле примирит обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним (эллинам. — Б.П.) и близким (иудеям. — Б.П.), потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф 2:14–18). Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что богословие Креста представляет сердцевину как христианской экклезиологии, так и христианской антропологии. Иудео-эллинский антропологический образ разъединял человеческий род, из-за того что не имел в себе синтезирующей силы, находившейся только «во Христе» и Его Кресте.
Современный человек переживает кризис идентичности именно из-за того, что пытается подменить христианскую, крестную, голгофскую идентичность иудео-эллинским мировоззрением. Мы подразумеваем под последним позицию антропоцентричного гуманизма. Постмодернистский человек в гносеологии отстаивает позицию автономности человеческого сознания (эллинская парадигма), а в онтологии отстаивает позицию автономности человеческого существования (иудейская парадигма). Это значит, что ему не нужен Бог, имманентный миру и человеку — Воплощенный новозаветный Бог Иисус Христос. Ему нужен
Бог, трансцендентный миру и человеку — удаленный Ветхозаветный Бог Ягве. Так, например, мы можем говорить о том, что есть люди, утверждающие, будто суть человека, его идентичность — «идентификация» со своим τέλος — основывается в нравственности, на человеческом нравственном порядке (habitus). Нравственная несостоятельность и инертность отнимает у человека его идентификационный код. Именно иудейские старейшины аксиологически оценивали человека — через нравственный habitus. Морально деградированный человек экскоммуницировался из иудейского религиозного сообщества, общение с такими людьми представляет собой «соблазн»: «Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мф 9:11). Кроме этого иудаизированного подхода к человеку существует и эллинизированный подход. Древние греки созерцали суть человека в рациональной составляющей его личности. Умственные плоды рациональной деятельности человека подвергались рефлексии для определения его сущности. Плоды такой деятельности проявляют себя в областях изучения философии, науки, искусства. Философия как метод интеллектуального, рационального «улавливания» идей-архетипов отстаивает антропологическую концепцию homo sapiens. Философией называется именно эта попытка человеческой субъективности, точнее сказать, трансцендентальных (априорных) человеческих познавательных способностей, в достижении смысла бытия.
Согласно сказанному, мы можем определить иудаистическую позицию как «практическое действие», ищущее «свободу», а эллинистическую как «рассудочное делание», ищущее «истину». Наряду с этими двумя взглядами на человека существует и третий, христианский, взгляд. Христианство соотносит основу человеческого бытия с Крестом Христовым, что отличает его от предыдущих учений. Так как они (иудаизм и эллинизм) видят в нем не только противоречие, но и антагонизм: «Ибо и Иудеи требуют чудес («свободу» узко-национального мессианства. — Б.П.), и Эллины ищут мудрости («истину», категориально изображенную. — Б.П.); а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Эллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор 1:23). Для поверхностно относящихся к Кресту иудеев и эллинов Он не мог быть ничем другим. Для них Крест и Тот, Кто висит на Кресте, представляет лишь еще одну добычу в руках все-властвующей владычицы вселенских событий — смерти. Лишь настоящие христиане, принимающие Крест как содержание своей жизни, тесно переплетаются с Ним и в Нем обретают Божию силу и Божию премудрость. Восприятие Кре- ста значит восприятие Христа, ибо Он есть Божья Сила и Божья Премудрость. Только Крест хранит свет жизни, так как любовь побеждает смерть. Однако, лишь крестная любовь аннигилирует смерть, ибо онтологизация любви совершается на Кресте. «Для них это будет знаком погибели, а для вас — спасения. И это от Бога, это Он даровал вам право стоять за Христа — и не только верой в Него, но и страданиями за Него…» (Флп 1:28–29). Они видят во Христе только человека, который страдает и умирает, христиане — Того же, но еще и Бога, Который воскрешает. Все это совершает один и тоже Христос, потому что христиане исповедают одного Богочеловека, познаваемого в двух природах, божественной и человеческой. Поэтому на вопрос «Кто страдает?» христианин отвечает: «Тот, Который и воскрешает». Все это хорошо знал западноевропейский человек, так как он личностно и общественно жил истиной христологиче-ского догмата Халкидонского Собора. Христианство являлось онтологическим кодом целостной европейской культуры. Об этом говорит и пастырски напоминает выдающийся православный богослов митр. Иларион (Алфеев): «Из европейской истории невозможно вычеркнуть две тысячи лет христианства, однако его значение не исчерпывается историей. Христианство остается важнейшей духовно-нравственной составляющей европейской идентичности»9.
Говоря о христианстве как о «важнейшей духовно-нравственной составляющей европейской идентичности», мы не отказываемся полностью от иудаистическо-эллинского типа идентичности. Мы постараемся обрисовать возможность их гармоничного сосуществования. В соответствии с платоническим учением о трех составляющих человеческой души мы можем так же говорить и о трех составляющих идентичности европейского человека. Платон различает в душе человека три начала: 1) разумное начало; 2) яростное начало; 3) страстное начало. Разумное начало представляет собой высшее проявление души. Эта часть души бессмертна, бестелесна и поэтому управляет двумя остальным частями. Все стороны души должны находиться в гармоничном отношении друг к другу при господстве разумного начала. Только такая психическая иерархия, когда два низших началах подчиняются высшему, осуществляет гармонию в человеке. Ту же самую иерархию мы можем соотнести и к феномену идентичности европейского человека. С восприятием Христа европейский человек получил следующую иерархию своего онтологического кода: 1) христианское начало (= тип); 2) эллинское начало (= тип); 3) иудаистическое начало
(= тип). Европейская идентичность, как и платонистическая душа, должна инте-риоризировать эти начала. Однако, к сожалению, история западноевропейского человека показывает постоянную вражду и войну между ними. Период первых трех веков христианской эры представляет войну иудейского и эллинского начала против христианского. Период темного средневековья представляет войну западного христианского начала против эллинского начала 10 . Наконец, период двадцатого века приносит с собой и войну эллинского (просвещенного) и западно-христианского начала против иудаистического.
Здесь надо объяснить, почему Божественное христианское начало превратилось в какую-то агрессивную силу, которая навязывает себя нехристианскому миру. Причина всего этого состоит в разложении западного христианского начала в себе самом. Оттолкнувшись от христианских источников, отвергнув братскую любовь своих восточных братьев «во Христе», западное христианство потеряло свою божественную соль. Оно потеряло Христа-Богочеловека и на место своей экклезиальной главы поставило Его заместителя (Vicarius Christi) — человека. Лишившись своей Божественной Главы — Богочеловека — западная христианская цивилизация лишилась своей божественности. Отсюда проистекает разложение европейской идентичности на всех уровнях. Не сохранив божественную целостность, западное христианство внесло дезориентацию во внутреннее бытийное ядро человека. Попытка ипостазировать Поместную Церковь в Единую Вселенскую Церковь привела к потери голгофского христианства. Более того, христианство превратилось в утилитарную человеческую организацию. Об этом замечательно пишет русский религиозный философ Николай Бердяев: «Идея авторитета в религиозной жизни противоположна тайне Голгофы, тайне Распятия, она хочет Распятие превратить в принуждающую силу этого мира. На этом пути церковь всегда принимает обличье государства, церковь принимает меч Кесаря. Церковная организация принимает юридический характер, жизнь церкви подчиняется юридическим принудительным нор-мам»11. Средневековое воинствующее западное христианство, удаляясь от Креста Христова, удалило себя и западноевропейского человека от голгофского плода, онтологизирующего человека и его культуру. Этот плод есть Светлое Христово Воскресение.
Кризис экуменического движения и пути его преодоления
Евангелие и апостольско-святоотеческий опыт учат, что Христова Церковь имеет полноту спасающей благодати, потому что «где церковь, там и Дух Божий; и где Дух Божий, там церковь и всякая благодать, а Дух есть исти- на»13 (Против ересей. 3. 24. 1). Следовательно, восстановление единства Церкви становится фундаментальной целью и raison d’être экуменического движения и Всемирного Совета Церквей (ВСЦ). Живя во время возникновения ВСЦ (1948 г.), румынский православный богослов Думитру Станилоэ (1903–1993) писал об этом следующее: «Экклезиология — это центральная тема экуменического движения. Поиск единства христианского мира представляет собой поиск Церкви; христианское единство означает Церковь, в которой все христиане хотят видеть себя объединенными…Именно протестантский мир очень усердно ищет то единство, которое и есть Церковь»14. Этот «поиск Церкви протестантским миром», представляющий в самом себе легитимный акт, непременно принуждает Православную Церковь осветить экклезиологический статус ВСЦ. В своем выступлении на Межправославной консультации об отношении ко ВСЦ (Шамбези, Швейцария, 1995 г.) митрополит Иоанн (Зизиулас), предостерегая от опасности отрицания экклезиального характера экуменического движения и ВСЦ, говорил, что это превратило бы их в секулярные структуры. Центральный Комитет ВСЦ в Торонто (1950 г.) принял декларацию, которая касалась экклезиологического значения ВСЦ. «Торонтская декларация» говорит о том, чтобы ВСЦ был «содружеством церквей», которое бы стремилось к правильной модели единства Церкви. В конечном итоге, экклезиологический плюрализм, выдвигаемый Торонтской декларацией, имеет относительный характер. Он помогает экуменическим партнерам созидать правильную модель Церкви. Однако, православная экклезиология свидетельствует, что правильная модель Церкви не может быт сотворена ex nihilo на пути экуменического диалога. Православные, держась веры, «однажды преданной святым» (Иуд 1:3) «никогда не отступят от своего убеждения, что Православная Церковь есть Una Sancta, в силу своей веры в то, что Церковь есть историческая реальность, и в то, что мы не можем искать ее за пределами предания, которое исторически нам было завещано и нами усвоено»15. В экуменическом диалоге, с православной точки зрения, единственным языком является язык древней, неразделенной Церкви.
Ссылаясь на слова Христовой молитвы «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино…» (Ин 17:21), экуменическая практика не отождествляет себя с самим духом этих слов. Западная ориентация ВСЦ уводит православных членов в такой дискурс богословского диалога, где преобладает протестантско-католический юридический дух. Евангелие в описа-ниии основных экзистенциальных категорий дает полное определение и четкое указание. Так, например, когда Христос говорит об истине, Он не дает простора ее толкованию в отвлеченных категориях. Истина — это не платоническая безличная идея. Она есть именно Христос, Богочеловек. Тоже самое мы находим касательно понятия соборности — единства всех христиан. Западные Церкви в своем подходе к соборности христиан абсолютизируют именно слова «да будут все едино». Однако, Христос, не остановившись на этом, открывает, какое единение Он имел в виду: «…как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино…» (Ин 17:21). Это показывает, что никакой субординации нет в Святой Троице. «Perihoresis» между Лицам Святой Троицы исключает любое «первенство власти» между ними. Монархия Отца не производит онтологического субординационизма. Арианский богословский ум не может совместить монархию Бога Отца с единством бытия Трех Лиц. Тоже самое мы наблюдаем в экклезиологии папского примата. Первенство апостола Петра, то есть его позиция «первенства части» (как и позиция римского епископа в отношении к остальным епископам «пентархии»16) меняется в сторону позиции «первенства власти». В результате место тринитарной экклезиологии занимает арианская экклезиология. Экклезиология папского примата абсолютизирует слова Христа «Я в Тебе» в ущерб первой части «как Ты Отче во Мне». Это происходит потому, что такая экклезиология защищает позицию Отца (римского епископа) в качестве деятельного субъекта. Сын (остальные Поместные Церкви) становятся пассивным «предметом» универсальной юрисдикционной власти Отца (Римской Церкви). Протестантская экклезиология, с другой стороны, абсолютизирует слова Христа «как Ты Отче во Мне» в ущерб пребыванию Сына в Отце. Критически отвергая авторитет Отца (римского епископа), протестантская церковь пытается освободить свое экклезиальное бытие из поглощенного состояния. Теперь она строит такую экклезиологию так, что, поглощая Отца (римского епископа), выдвигает себя на место Отца, потому что авторитет папы сменяется авторитетом каждого верующего — индивидуализм занимает место папизма. Таким образом, обнаруживается, что только принцип древней Церкви является истинным отражением триадологии. Все ипостаси Святой Троице находятся Друг в Друге, как Свет в Свете. Вечной перихорезис ипостасей в Троице, выраженный в вышеприведенной Христовой молитве, является образцом древнего принципа «пентархии». Бог Отец любовью пребывает в Боге Сыне, и Бог Сын, как и Бог Дух Святой, любовью пребывает в Боге Отце. Между тем как римский епископ (Отец) хочет не любовью, а авторитетом власти быть над Сыном (прочими епископами), так и протестант хочет силой бунта быть над Отцом (папой).
Экклезиологическое значение триадологии, выраженное в принципе пен-тархии древней нераздельной Церкви и сохраненное в жизни Православной Церкви, должно стать и экуменическим опытом17. Творческая рецепция церковного предания является фундаментальным фактором и подлинным критерием евхаристического общения тех, кто разделяет ту же веру в Триединого Бога и крещен во имя Его. Экклезиально-догматическая целостность Православной Церкви не препятствует ей самокритично осветить свой духовно-нравственный этос. Пожалуй, выход из экуменического кризиса состоится в самокритическом развертывании как римско-протестантского церковно-догматического этоса с одной стороны, так и православного нравственного этоса с другой. В Евангелии от Луки сказано: «...И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк 12:48). Эти слова мы можем отнести к православным христианам. Что это такое, что «дано много и много вверено, и что потребуется от нас»? Нам дана неповрежденная Церковь (экклезиально-догматическая сторона), а потребуется чистота жизни (нравственно-духовная сторона). Разве клерикальный конформизм, который все больше и больше проникает в Православную Церковь, сможет нынешнему секуляризованному чело- веку указать на Христа? Профанация священнической благодати дает право людям толковать Церковь в социополитических категориях. Ортодоксия не может быть отделена от ортопраксии, потому что ортодоксия общества зависит от ортопраксии всего клира и верующего народа, о чем сказано: «Не всякий, кто говорит мне “Господи, Господи” войдет в Царствие Небесное, но только исполняющий волю Отца моего, Который на небесах». Воля Отца небесного есть в том, «…чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:5). Эту волю Он определил в качестве экзистенциального императива Своей Церкви — Единой, Святой, Соборной, Апостольской и Православной. Поэтому перед Православной Церковью сегодня стоит задача реализовать этот императив в экуменическом движении, что будет являться способом выхода из сложившегося кризиса.
Список литературы Кризис идентичности европейского человека и его отражение в экуменическом движении
- Афанасий (Евтич), еп. Экклесиология Апостола Павла. М.: Новоспасский монастырь, 2009.
- Бердяев Н.А. О русских классиках. М.: «Высшая школа», 1993.
- Benz E. The Eastern Orthodox Church: Its Thought and Life/Trans. R. and C. Winston. Garden City, N. Y.: Doubleday, Anchor Books, 1963.
- Булгаков С., прот. Православие. Париж, 1989.
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. СПб.: АСТ, Астрель, 2003.
- Иоанн (Зизиулас), митр. Самопонимание православных и их участие в экуменическом движении/Межправославная консультация об отношении ко Всемирному Совету Церквей. Шамбези, Швейцария, 19-24 июня 1995 года//Ортодоксия и гетеродоксия. URL: http://www.ortho-hetero.ru/index.php/doc-ecum/150.
- Иларион (Троицкий), свщмч. Краеугольный камень Церкви. М.: Сергиев Посад, 1914.
- Иларион (Алфеев), митр. Интервью НГ-Религии//Сайт «Religare». URL: http://www.religare.ru/2_42400.html (дата обновления: 06.06.2007; дата обращения: 20.02.2012).
- Ириней Лионский, св. Пять книг против ересей//Памятники древней христианской письменности. М., 1868.
- Православная миссия сегодня. Сборник текстов по курсу «Миссиология». СПб.: «Апостольский город», 1999.
- Stăniloae D. Theology and the Church. Crestwood, N. Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1980.
- Флоровский Г., прот. О смерти крестной//Православная мысль. No 2. 1930.