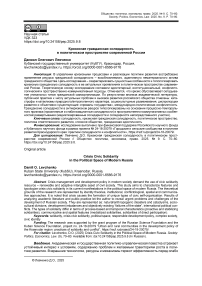Кризисная гражданская солидарность в политическом пространстве современной России
Автор: Левченко Д.О.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В управлении кризисными процессами и реализации политики развития востребовано применение ресурса гражданской солидарности – возобновляемого, адаптивного нематериального актива гражданского общества. Цель исследования – охарактеризовать сущностные особенности и типологизировать кризисную гражданскую солидарность в ее актуальных проявлениях в политическом пространстве современной России. Теоретическую основу исследования составили идентитарный, институциональный, конфликтологический и пространственно-коммуникативный подходы. Отмечается, что кризис обуславливает складывание уникальных типов гражданской самоорганизации. По результатам анализа академической литературы, публичной практики к числу актуальных проблем и вызовов развития российского общества отнесены: катастрофы и катаклизмы природного/антропогенного характера, социокультурные размежевания, диспропорции развития и объективно существующие «провалы государства», международно-политическая конфликтность. Гражданские солидарности в антикризисном ракурсе типологизированы на основании процессно-темпорального признака (проактивные и стабилизационные солидарности) и пространственно-коммуникативных особенностей развертывания (медиатизированные солидарности и солидарности непосредственного участия).
Солидарность, кризисная гражданская солидарность, политическое пространство, политика ответственного развития, сложное общество, гражданская идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149149098
IDR: 149149098 | УДК: 323 | DOI: 10.24158/pep.2025.9.8
Текст научной статьи Кризисная гражданская солидарность в политическом пространстве современной России
Кубанский государственный университет (КубГУ), Краснодар, Россия, ,
,
прогнозируемыми изменениями. В ежегодном докладе ИМЭМО РАН «Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика» для политических трендов сформулирован так называемый фактор-2025 – бинарная неопределенность как слабая предсказуемость траекторий, результатов развития проблем и конфликтов; и как «нестабильное политико-психологическое состояние обществ и элит» (Россия и мир: 2025…, 2024: 23), усугубленное общественной тревогой. От антикризисной политики государства ожидают «ответственного» подхода, а сами институты власти находятся в поиске «констант развития» – гибких, воспроизводимых и универсальных ресурсов/инструментов для множества вариаций кризисов. Такие активы востребованы для решения вопросов: а) многоуровневой и сетевой консолидации сложного общества; б) активации потенциала неправительственных субъектов; в) укрепления национально-гражданской и цивилизационной идентичности, конструктивно дополняемой этническим, конфессиональным, социально-профессиональным, территориальным компонентами самоидентификации человека и гражданина.
В центр исследования помещена категория гражданской солидарности – нематериальный ресурс, действующий в широком пространственном континууме – в масштабах страны и за ее пределами (среди соотечественников за рубежом), в форме просоциального действия, которое возникает в значительной мере в ответ на различные по глубине и социальному эффекту негативные явления и процессы. Кризисы, «провалы государства» имеют непреходящий характер и одновременно видоизменяются, отличны от сообщества к сообществу, что определяет потенциал к типо-логизации кризисных гражданских солидарностей в их разнообразных проявлениях. Зоны турбулентности «притягивают» неравнодушных и ответственных россиян: картирование добрых дел на портале «Добро.ру»1 показывает, что локализация практик взаимопомощи и гражданского участия (волонтерство, добровольчество), за исключением столичных регионов (г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), проявляется в большей степени в приграничных регионах Центральной и Южной России – на территориях, подверженных эффектам военно-политической конфронтации.
Цель исследования – охарактеризовать сущностные особенности и типологизировать кризисную гражданскую солидарность в ее актуальных проявлениях в политическом пространстве современной России.
Научная новизна исследования включает: формулирование признаков гражданской солидарности (широкий интегрирующий потенциал, территориальная многомерность, сравнительно низкая конфликтогенность) как нематериального ресурса, востребованного в многообразии пространств, вызовов и субъектов макрополитического сообщества; типологизацию кризисных гражданских солидарностей на основании процессно-темпорального и пространственно-коммуникативного подходов в условиях новых вызовов и размежеваний сложного общества.
Практическая значимость исследования состоит в актуализации набора кризисных процессов и явлений в современном российском обществе, а также определении содержательной специфики кризисных гражданских солидарностей и технологических (инструментальных) подходов к управлению ими, востребованных в публичной политике.
Теоретические основания и методы исследования . Теоретическое обоснование кризисной гражданской солидарности основано на кросс-парадигмальном принципе и объединяет разработки в идентитарном, институциональном, пространственно-коммуникативном и конфликтологическом подходах.
Осевым элементом и надматериальным основанием консолидации в сообществе на основе когнитивных, ценностных и эмоциональных компонентов выступает гражданская идентичность (Русия, Ракачев, 2023). Общий социально-психологический профиль, дополненный субъективными интересами и мотивами гражданина, востребован в макросообществе – государстве-нации – благодаря своей устойчивости сквозь временные и пространственные континуумы на основе единства культурно-исторической памяти, сложившейся модели политической культуры, реализуемой политики идентичности. Гражданская идентичность выступает фактором гражданского включения (civic engagement) и гражданского участия (civic participation) (Troup, 2010: 80), скрепляет людей, «взаимодействующих в составе политической нации» (Дробижева и др., 2018: 188–189), на основе осознания своих гражданских прав, обязанностей, ответственности, общей приверженности идее и нормам правового государства (Дробижева, 2018; Перегудов, 2017).
В логике институционального подхода солидарность рассматривается как объединение и действие, основанное на нормах и правилах конвенциональных, формализованных и неформальных. Предикат «гражданская» указывает на политико-правовую связь человека и государства, наличие взаимных прав и обязанностей, обеспеченных силой позитивного права, и на основе гражданства ‒ государственным суверенитетом (Krupp, 2010). С. Шольц подчеркивает, что «в силу своего членства в политическом государстве каждый гражданин обязан всем остальным гражданам, и наоборот» (Scholz, 2008: 27–29). Государство встраивается в систему субъектов гражданской солидарности как сторона отношений, разработчик стратегий актуализации и конституирующий правила игры архитектор. Применение подхода также объяснимо тем, что типичной формой ассоциации граждан выступают зарегистрированные некоммерческие организации. Формальная корпоративная принадлежность структурирует действие, задает обязательства по его исполнению в надлежащем качестве.
Практики солидарности, выраженные в протестной активности населения по поводу содержания проектов развития, практических результатов государственного/муниципального управления, рассматриваются как случаи политического (публичного) оспаривания (Савенков, 2020; Он же, 2024), а самоорганизация граждан – как защищающиеся (оборонительные) сообщества (Скалабан и др., 2022). Конфликтологическая парадигма позволяет раскрыть одну из ипостасей кризисной гражданской солидарности при условии соответствия таких действий нормам права и принципам социальной ответственности. Протест жителей, их коллаборация с третьими институтами, лидерами мнений обосновываются через теории и концепции на стыке социологии города и конфликтологии – адвокативное планирование, NIMBY-синдром («только не на моем заднем дворе»), «право на город».
Пространственный подход позволяет исследовать солидарность как «вписанную» в контекст, учесть специфику среды политической коммуникации. Типологизация солидарностей в форме дискурсов, знаков и символов основана на функционально-структуралистском понимании пространства, а также на положениях социальной семиотики (Социальная семиотика…, 2020; Фомин, Ильин, 2019). Для характеристики гражданских коммуникаций «сквозь пространство» автор обращается к теоретическим разработкам в области сетевизации и цифровизации общественно-политических взаимодействий1 (Добринская, 2021; Мирошниченко, 2016).
Российское общество понимается как сложное общество (Лапкин, 2023), где существует широкая палитра субъектов, факторов, доступных и дефицитных ресурсов в политическом процессе и политике развития. Сам россиянин является носителем сложносоставной идентичности (Морозова, 2012), в ней сочетаются этноконфессиональный, территориальный, цивилизационный, социально-статусный и другие компоненты самоидентификации.
Солидарность выступает нематериальным ресурсом2 (Мирошниченко и др., 2025б), востребованным в политике ответственного развития современной России (Бардин, Пантин, 2024; Семененко, 2019).
Эмпирическую основу исследования кризисных солидарностей в России составили результаты анализа проблемных ситуаций, в том числе в политике территориального развития Краснодарского края на примере проектов в сфере экологии, природопользования и градостроительства (проект № 24-18-20079 «Городские и сельские сообщества в политике развития Краснодарского края: практики солидарности и конфликтности», руководитель – А.И. Кольба); исследования гражданской солидарности в регионах Юга России в 2023 г. с использованием метода экспертных интервью в трех субъектах РФ – Краснодарском крае, Республике Адыгея, Республике Крым ( N = 45); аналитические выводы и данные о практиках солидарности и конфликтности, полученные отечественными исследователями.
Результаты исследования:
Вызовы и ограничения развития сложного общества в современной России . Метафоры 2000-х гг. «мир ускользает из рук» (Гидденс, 2004), «текучая современность» (Бауман, 2008) жизнеспособны по сей день. Идентичности, технологии, коммуникации, политические объединения и союзы, контекстуальные параметры изменчивы, что составляет норму повседневности. Диссонанс между глобализацией и «борьбой за сохранение суверенности/самобытности» (Тихонова, Дудин, 2023: 7–8) выражает одно из базовых противоречий, представленных в научном дискурсе. Социальная диффузия, фрагментация и диспропорции развития находятся в фокусе публичной политики. Все более активно поднимаются проблемы размывания идейно-ценностного профиля гражданина, восстановления экономического (технологического) суверенитета, новых социокультурных, демографических размежеваний.
Незащищенность человека не устраняется по мере наступления прогресса и роста благосостояния (Инглхарт, Вельцель, 2011), а видоизменяется:
-
– изобилие рыночной экономики конституирует «одномерного человека», неспособного рационально организовать потребление (товарное, информационное, эмоциональное (экономика впечатлений), потребление услуг), угрожающее собственному физическому и ментальному здоровью;
-
– преступления и насилие ширятся в новых коммуникативных пространствах и не ограничиваются национальными сегментами сети Интернет или телефонии (кибербуллинг, мошенничество, хакерские атаки на критическую инфраструктуру, кража персональных данных пользователей, развертывание когнитивных войн и др.);
-
– либеральный режим трансграничной миграции привел в конечном счете к секьюритизации национальной/миграционной политики, дискредитации политики мультикультурализма и ее демонтажа, например, в действиях и дискурсах правительств Д. Трампа, Ф. Мерца;
-
– глобальные противостояния, конфликты национальных и корпоративных интересов проецируются в прокси- и гибридных войнах, действиях негосударственных акторов (сетевые террористические организации, частные военные компании, наемники) (Капицын и др., 2019; Cтепа-нова, 2020);
-
– экономическая рецессия в условиях рассеивания за рубежом экономического и технологического суверенитета настигает страны по принципу домино.
Анализируя изменения и вызовы сложного общества, мы обращаемся прежде всего к национально-территориальному государству – «нормативной политической рамке» (Лапкин, 2023: 37– 38), где воплощено единство качеств национальности (общие пространства: культурно-историческое, правовое, экономическое) и территориальности. Центральные правительства с новой силой отстаивают национальную безопасность, ведут дискуссии о дееспособности глобальных институтов управления. Можно наблюдать разработку и долгосрочных государственно-управленческих стратегий, и ситуативных политических решений-реакций по сохранению стабильности и преемственности в вопросах семейной, образовательной, молодежной, национальной, миграционной, языковой политики. В России единая система публичного управления, укрепившаяся «по вертикали», а также за счет новых межсекторных сетевых партнерств, использует свои институциональные, технологические, ресурсные возможности для приведения политики развития к «ответственному» состоянию, основанному на нравственных мотивациях, «балансе между инновационным мышлением и опорой на традицию» (Семененко, 2019: 16).
Результаты развития первой четверти XXI в. выглядят обнадеживающе прежде всего в ракурсе потенциала консолидации общества: пандемия COVID-19, военно-политическая конфронтация выкристаллизовали способность российских граждан включаться как в «низовые», так и в иерархично выстроенные сети взаимопомощи1. Р.Н. Лункин отмечает следующие позитивные эффекты для общества в условиях пандемии: всплеск благотворительности и социального служения, формирование нового чувства социальной ответственности за окружающих. По его словам, «пандемия заставила людей действовать по-новому» (Лункин, 2020: 122–123). Тем не менее рост и коллективного, и индивидуального благополучия/благосостояния в современной России ограничивается некоторыми характерными проблемами и противоречиями. Представим некоторые из них.
Катастрофы и катаклизмы природного/антропогенного характера – слабопрогнозируемые кризисные явления, которые требуют оперативной мобилизации ресурсов. Сложный природно-климатический ландшафт России и только складывающееся экологическое сознание россиян (фокус на субъективный фактор) обуславливают риски деградации экологического благополучия населения, разрушения инфраструктуры в результате наводнений, схода селей в горных районах или лесных пожаров, нередко вызванных хозяйственной деятельностью человека. И природные катаклизмы, и кризисы антропогенного происхождения (например, разлив нефти в Керченском проливе в 2024–2025 гг. или падение в жилой застройке г. Ейска истребителя в октябре 2022 г.) вызывают широкую консолидацию территориальных сообществ в России.
В современном обществе классические размежевания (город – село, центр – периферия, государство – церковь, капитал – труд) дополнены ценностными, этнокультурными, этнополитическими и цивилизационными разделениями и расколами, «цифровым неравенством» (Семененко и др., 2021: 59) . Углубляются межпоколенческие разрывы. Повестку захватил миграционный вопрос, а также способность государственных институтов обеспечить интеграцию новых членов.
Диспропорции и «провалы государства» в политике развития. В новых технологических реалиях сохраняются зоны низкой эффективности правительственных институтов: ограниченность информации, востребованной в управлении; проблемы финансирования, конфликт интересов политических элит, бюрократизация процессов (Радыгин, Энтов, 2012). Сохраняется высокий уровень межрегиональной дифференциации, а урбанизация ставит под вопрос будущее развития сельских территорий и малых городов, расположенных за пределами крупных городских агломераций1.
Международно-политическая конфликтность дала импульс к национальной консолидации и дальнейшему укреплению суверенитета страны. Одновременно проведение Россией специальной военной операции привело не только к ограниченному ущербу макроэкономической стабильности, но и кристаллизации проблемы исполнения гражданских обязанностей, деятельностного выражения патриотизма: февраль 2022 г. спровоцировал релокацию части россиян за рубеж, преступные диверсионные действия против военной и гражданской инфраструктуры. На новый уровень вышла проблема телефонного мошенничества, ставшая частью конфликтной стратегии отдельных стран2, и ее эффект не ограничивается материальными потерями – в социальных коммуникациях предпринимаются попытки культивировать недоверие.
Проблемы, особенно в фазе активного кризисного течения, требуют коллективных антикризисных действий в духе политики ответственного развития – использования ресурса гражданской солидарности.
Кризисная гражданская солидарность: содержание понятия и способы типологиза-ции . Современные ракурсы политики развития (устойчивый, ответственный, развитие человека), подходы к государственному управлению («хорошее управление», governance, e-governance) помещают гражданина и общественные объединения в круг субъектов антикризисного управления, а сама способность сообщества консолидироваться признается значимым нематериальным акти-вом3. В данном исследовании гражданская солидарность понимается как сплоченность сообщества, основанная на общем социально-психологическом профиле – гражданской идентичности. Она выражается эксплицитно в коллективном прообщественном действии, обеспечивается государством через конституирование гражданских прав, возможностей и обязанностей, а также поддерживается государственными и негосударственными механизмами. Преимущества гражданской солидарности в сравнении с сопоставимыми категориями политической или национальной солидарности, востребованными в кризисных ситуациях, вытекают из следующих свойств:
-
• во-первых, широкий интегрирующий потенциал: формирующая гражданскую солидарность идентичность способна «скрепить этнонациональные, социальные, экономические, социокультурные общности, взаимодействующие в составе политической нации» (Дробижева, 2018: 104), а сама солидарность основана на принципах: а) свободы от насилия внутри сообщества; б) принятия людей из отличных этнических, языковых, религиозных групп и отношения к ним как к правомерным членам сообщества, как к «своим» (Banting, Kymlicka, 2017), что обеспечивает средний/низкий конфликтный, поляризационный потенциал;
-
• во-вторых, территориальная многомерность : несмотря на то, что национальное гражданство устанавливает партнерство человека с центральным правительством, положения Основного закона и других нормативно-правовых актов дают гражданину право коллективного общественно-политического действия в субнациональных пространствах (региональных, локальных, корпоративных), в отношении множества социальных групп, что особенно проявляется в федеративных государствах с многоуровневой системой управления и согласования интересов; гражданская солидарность складывается не только за счет конструирования национальной идентичности, но и на основе «чувства места»;
-
• в-третьих, действия гражданской солидарности могут иметь неполитический характер (например, работа социально ориентированных НКО, волонтерство, добровольчество), что обеспечивает универсальность такого ресурса.
Кризисная гражданская солидарность входит в группу ситуационных практик гражданского действия наряду с солидарностью специальных событий4 и имеет проблемно ориентированный характер. На основе процессно-темпорального и пространственно-коммуникативного признаков предлагается типологизировать кризисные солидарности на превентивные (проактивные), стабилизационные (реактивные), медиатизированные, солидарности непосредственного участия (табл. 1).
Таблица 1 ‒ Кризисная гражданская солидарность: результаты типологизации1
Table 1 ‒ Crisis Civic Solidarity: Results of Typologization
|
Основание (признак) типологизации |
Тип гражданской солидарности |
Субтипы |
|
Процессно-темпоральный |
Стабилизационная (реактивная) солидарность |
– Солидарность оперативного реагирования; – оспаривающая солидарность |
|
Превентивная (проактивная) солидарность |
– Оспаривающая солидарность |
|
|
Пространственнокоммуникативный |
Медиатизированная (опосредованная) солидарность, или солидарность «сквозь пространство» |
– Солидарность трансфера антикризисных ресурсов; – дискурсивная солидарность; – солидарность символических форм |
|
Солидарность непосредственного участия |
Реактивная (стабилизационная) гражданская солидарность широко распространена в российской практике. Она возникает в ответ на деструктивные процессы объективного характера (например, природные катаклизмы); в условиях межгосударственных конфликтов и общих экзистенциальных угроз, когда происходит мобилизация нации (специальная военная операция, пандемия СOVID-19); в результате неудовлетворенности политико-управленческими решениями, которые привели либо к депрессии, либо к стагнации в территориальном развитии, падению уровня субъективного благополучия граждан (Кольба и др., 2025).
Внутри реактивного типа гражданской солидарности значимыми являются практики оперативного включения . Такими ситуациями представляются экстренные гражданские действия жителей Московской области и г. Москвы в ответ на террористический акт в «Крокус Сити Холле» весной 2024 г. или участие в мероприятиях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Появление в информационной повестке первых сообщений о трагедии в концертном зале г. Красногорска стянули добровольцев и волонтеров к месту происшествия, образовались очереди в пунктах сдачи донорской крови, бизнес проявил социальную ответственность: организации списали кредитные задолженности жертв и пострадавших, оказали финансовую помощь через благотворительные фонды, предоставили бесплатные поездки на такси с места трагедии2. Результаты эмпирического исследования гражданской солидарности локальных сообществ Юга России в 2023 г. показали, что социокультурный фактор и этничность обеспечивают больший уровень антикризисной сплоченности, создают опору для гражданской идентичности (табл. 2). Эксперты следующим образом охарактеризовали экстренные поисковые действия жителей Республики Адыгея, где преобладает сельское население, а также сообщества с «сильными» социальными связями и ярко выраженной этничностью и религиозностью: «У нас была такая ситуация: пропала девочка, 10-классница, у достаточно известной в городе семьи. Начались поиски. “Лиза-Алерт” подключилась. Искали девочку очень долго… Люди реально сплотились вокруг этой ситуации. Одни ходили по лесу по принятой методике, другие помогали фонарями, едой. Было множество групп, в которых обменивались информацией, какими-то словами поддержки» (Э6, Республика Адыгея); «Девочка была из русской семьи, но в поисках участвовали люди разных национальностей. А если бы пропала девочка из адыгейской семьи, мне почему-то кажется, что людей было бы еще больше… Просто, когда именно критическая ситуация возникает в этнической общине, сообществе, внутренние обязательства становятся намного сильнее…» (Э9, Республика Адыгея).
Таблица 2 ‒ Иерархия факторов формирования и актуализации гражданской солидарности в двух регионах Юга России
Table 2 ‒ Hierarchy of Factors of Formation and Actualization of Civic Solidarity in Two Regions of Southern Russia
|
Критерий сравнения |
Краснодарский край* |
Республика Адыгея* |
|
Фактор 1-го порядка |
Геополитический/ Контекстуальный |
Социокультурный (идентитарный) |
|
Фактор 2-го порядка |
Политико-институциональный |
Геополитический/ Контекстуальный |
|
Фактор 3-го порядка |
Социокультурный (идентитарный) |
Доверие/Коммуникации |
|
* На основе результатов экспертного опроса |
||
1 Все таблицы в статье составлены автором.
2 Как бизнес помогает жертвам теракта в «Крокусе» [Электронный ресурс] / Комсомольская правда // ВКонтакте. 2024. URL: https:// (дата обращения: 04.08.2025) ; Должны не будут: как бизнес отреагировал на трагедию в «Крокусе» [Электронный ресурс] // Известия. 2024. URL: https:// (дата обращения: 04.08.2025).
Превентивная (проактивная) гражданская солидарность представлена коллективными практиками по охране, обеспечению стабильности сообщества в условиях новых угроз и вызовов. Такой тип существует в транзитной зоне между гипотетическим кризисом и наступившими негативными последствиями. Способность действовать превентивно исходит из накопленного опыта, социальной памяти по управлению рисками/кризисами, развитости институциональной среды диалога субъектов публичной политики. На практике широкое распространение получает форма действия защищающихся сообществ (Скалабан и др., 2022) в ответ на проекты и решения, оцениваемые как нарушающие интересы жителей города/сельского поселения/региона, и развертывании «конфликтов развития» (Кольба и др., 2025) – в таких случаях развивается оспаривающая солидарность . Для характеристики таких гражданских практик полезны обе теоретические оптики изучения политического оспаривания: и дискурсивная, основанная на «столкновении интерпретаций событий», обсуждении проектов, и деятельностная, выраженная в политической активности и продвижении общественных интересов (Савенков, 2024: 240). Планы строительства полигонов твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающих заводов на территории Краснодарского края породили набор случаев проактивной солидарности против инфраструктурных решений. В городах Горячий Ключ и Армавир, пригородных территориях г. Краснодара, сельских поселениях Кубани жители использовали разнообразные способы сворачивания проектов: митинги, в т. ч. одиночные пикеты; критика на заседаниях общественных слушаний, критический онлайн-дискурс. Особая роль отведена институциональному фактору – наличию устойчивых форматов «низовой» самоорганизации, механизмов артикулирования проблем и их разрешения с участием публичных органов власти.
Частным случаем консолидации против неэффективности и негативных результатов политики развития может стать адвокативная солидарность , когда имеет место объединение усилий населения и той части гражданских активистов, которые являются носителями экспертного знания. Они совместно предлагают и продвигают альтернативные проекты развития. В таких практиках находят выражение типичные признаки адвокативного планирования: конкурирующие взгляды на развитие; наличие планировщика – специалиста по планированию, обслуживающего группы клиентов, которые не обладают необходимой квалификацией и знаниями для принятия решений; представление особых интересов различных общественных групп (Feld, Pollak, 2010: 3–6). Такие стратегии защищающихся сообществ в России мало распространены, а привлечение эксперта в области градостроительства, экологии или архитектуры обосновывает критику в отношении институтов власти без разработки альтернативных гражданских предложений.
Востребованным партнерским форматом развития территорий выступает соучаствующее проектирование , где оспаривание выступает одним из процессов на этапах инициирования, планирования и контроля в политико-управленческом цикле. Применение проектного подхода создает условия для проактивной солидарности с низким конфликтным потенциалом, критика решений встроена в работу дискуссионных площадок, общественных групп контроля качества исполнения проекта или в процедуру экспертизы перспективных проектов (Мирошниченко и др., 2025а). Проектное просвещение населения, государственное грантовое финансирование, площадки межсекторного диалога и другие форматы встраивания проектного подхода в публичную политику создают основания трансформации солидарности в ценностно-ориентированную , в ресурс политики развития, где деятельностный гражданин: разделяет принципы проектной деятельности и использует их в т. ч. как универсальные в повседневности и при наступлении специальных событий; владеет навыками анализа проблемной ситуации и эффективного управления дефицитными ресурсами, гибкой адаптации к новым рискам и ограничениям; работает в команде изменений в качестве носителя уникальных/полезных знаний и навыков; участвует в разработке востребованных в обществе решений; воспринимает себя, гражданское объединение и целевую группу проекта перспективно и в контексте позитивных качественных/количественных изменений.
Пространственно-коммуникативный фактор позволяет рассматривать кризисную гражданскую солидарность как медиатизированную («сквозь пространство») и как непосредственную.
Семиосфера и цифровое пространство составляют основу взаимодействия людей на основе знаков, символов и дискурсов. По замечанию А.Ф. Филиппова, «действие на расстоянии, не пропущенное через фильтры местной солидарности и территориальной лояльности, существует и становится все более интенсивным» (Филиппов, 2011: 15). Разукоренение – изъятие социальных отношений из контекста непосредственности (Э. Гидденс) (Цит. по: Филиппов, 2011) – затрагивает каждого, кто попадает в сети социальных медиа и интернет-пространства. Новые поля сетевой публичной политики (Мирошниченко, 2016) дают возможности для обмена востребованными ресурсами, а цифровая реальность является местом конструирования не только «воображаемой» нации, но и локальных городских и даже сельских сообществ. В результате солидарности существуют и развиваются за пределами непосредственности.
Вариации медиатизированных солидарностей обусловлены тем, какие объекты передаются по каналам коммуникации. Предполагается, что гражданское партнерство и взаимопомощь основаны на обмене востребованными материальными/нематериальными ресурсами, дискурсами, символами.
Солидарность трансфера антикризисных ресурсов предполагает, что сограждане опосредованно делятся с пострадавшими, нуждающимися сообществами, медиаторами-агрегаторами (общественные лидеры и организации, которые консолидируют, преобразуют и перенаправляют в зоны нестабильности гражданские ресурсы (Левченко, 2024: 94)) материальными и нематериальными активами, полезными для решения проблем и выхода на устойчивые траектории развития. Так, граждане направляют гуманитарную помощь, финансируют проекты благотворительных фондов или через онлайн-среду делятся экспертным знанием, предоставляют услуги психологической помощи пострадавшим. Вклад цифровых пользователей в созидательные или оспаривающие действия означает, что аудитория разделяет прагматические цели и ценности гражданского объединения или государства, развивающего партнерство против кризиса. К физическим ресурсам относятся денежные средства, технологии и материалы, продукты питания, одежда и иная гуманитарная помощь. Нематериальная ресурсная поддержка – это прежде всего активация интеллектуального и сетевого капитала, лидерского потенциала по сбору и передаче помощи.
Дискурсивная солидарность выражается в одобрении, поддержке, устойчивом выражении согласия с действиями гражданских лидеров, лидеров общественного мнения, институтами публичного управления. Например, юные граждане и молодежь России участвуют в акции «Письмо солдату»; пользователи социальных медиа поддерживают гражданских активистов, которые выступают против проблем территориального развития, через комментарии поддержки, реакции-«эмодзи», авторские репортажи в личных блогах (см. телеграм-канал «Полтавская против свалки»).
Солидарность символических форм предполагает публичное признание сообществом (анти-)кризисных действий через художественные образы, графические объекты и образные номинации (муралы, граффити, выставки, мемориалы, топонимы, интернет-мемы, произведения кинематографа, в т. ч. гражданского). Опыт борьбы с коронавирусом показывает применение широкого набора инструментов символической политики для выражения поддержки и увековечивания памяти о медицинских работниках:
-
1. Граффити в городских пространствах с маркерными элементами: персонификация, спецодежда (маски, костюмы), медицинские инструменты (фонендоскоп, пробирка), надписи («Спасибо врачам», «Побеждай», “COVID-19”, #защитиврачей), визуализированные активные действия медиков (спасение человека, борьба с вирусом), специальные графические элементы выражения поддержки и роли медика в управлении кризисом (красное сердце, восклицательные знаки)1.
-
2. Установление мемориальных дат (например, в Иркутской области учрежден День памяти медицинских работников, погибших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией) и организация на их основе регулярных коммеморативных практик.
-
3. Памятники и аллеи в честь погибших медиков, медицинских сестер и санитаров, мемориальные доски (например, в г. Санкт-Петербурге создана скульптура «Плачущий ангел» и высажена кленовая аллея в Калининском районе).
-
4. Документальные фильмы, снятые организациями киноиндустрии, федеральными и региональными медиа, а также самими медицинскими работниками и гражданами.
-
5. Тематические фотовыставки как креативные проекты и др.
В ответ на события в «Крокус Сити Холле» в 2024 г., пандемию COVID-19 и другие события, повлекшие жертвы среди членов профессиональных сообществ и населения, активно развивается «низовая» мемориальная культура в форме стихийных мемориалов. Теракт стал поводом к национальной скорби, локализованной вблизи не менее символичных объектов (городская скульптура «Сердце» в г. Белгороде; монумент, посвященный трагедии в ночном клубе «Хромая Лошадь» в г. Перми; стела Москвы на аллее Славы городов-героев в г. Севастополе2), и трансграничной солидарности у дипломатических представительств России за рубежом. И дискурсивная солидарность, и ее символическое выражение обеспечивают единение не только сквозь существующее пространство, но и во временном континууме. Акция «Бессмертный полк» – одна из технологий политики памяти, которая через личный опыт актуализирует подвиг советского народа, создает преемственность между событиями, людьми настоящего и прошлого. Эффект преемственности усиливается, когда в историческую повестку шествий вплетаются фрагменты социальной памяти о погибших в зоне специальной военной операции. В результате ценности и идеалы эпохи минувшего встраиваются в стратегии актуализации кризисной солидарности настоящего.
Вторую группу составляет солидарность непосредственного участия: физическое включение в управление кризисом через практики добровольчества/волонтерства; реализация проблемно ориентированных социальных проектов и инфраструктурных решений; участие в политических конфликтах и практиках оспаривания в прямом взаимодействии с субъектами публичного управления – депутатским корпусом, представителями общественно-политических организаций и административных органов (конвенциональные протесты и митинги, участие в публичных слушаниях, сходы).
ВывоДы . Новые технологические решения снимают барьеры, препятствующие гражданскому участию в судьбе страны и ее сообществ. Непреходящие кризисы сложного общества предъявляют новые требования к антикризисному управлению: а) широкое межсекторное партнерство государства и гражданского общества; б) способность к своевременному, экстренному применению стабилизационных механизмов. Цифровые технологические платформы, дискурсы, понятные и разделяемые обществом символы дают гражданину возможность создавать новый открытый (bridging) социальный капитал, на основе доверия делиться дефицитными антикризисными ресурсами с институтами власти, внутри гражданского сектора.
Реактивная гражданская солидарность находится в гиперактивном состоянии, реагируя на множественные проблемы безопасности и развития, а проактивные формы гражданского активизма требуют: объективного и конструктивного внимания от публичных органов власти, оцениваемых сквозь призму интересов общественного благосостояния и социально-психологического благополучия населения; институционального развития механизмов и площадок диалога, партнерства для инициирования, разработки и реализации «ответственных» проектов развития.