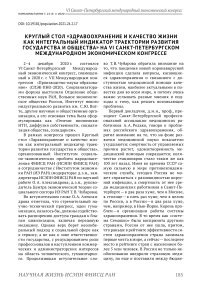Круглый стол "Здравоохранение и качество жизни как интегральный индикатор траектории развития государства и общества" на VI Санкт-Петербургском международном экономическом конгрессе
Автор: Александрова Ольга Аркадьевна, Ненахова Юлия Сергеевна, Локосов Евгений Вячеславович
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Научная жизнь ИСЭПН ФНИСЦ РАН
Статья в выпуске: 2 т.24, 2021 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/143177656
IDR: 143177656 | DOI: 10.19181/population.2021.24.2.17
Текст статьи Круглый стол "Здравоохранение и качество жизни как интегральный индикатор траектории развития государства и общества" на VI Санкт-Петербургском международном экономическом конгрессе
2–4 декабря 2020 г. состоялся VI Санкт-Петербургский Международный экономический конгресс, совмещенный в 2020 г. с VII Международным конгрессом «Производство-наука-образова-ние» (СПЭК-ПНО-2020). Соорганизатора-ми форума выступили Отделение общественных наук РАН, Вольное экономическое общество России, Институт нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, другие научные и общественные организации, а его основная тема была сформулирована как «Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм».
В рамках конгресса прошел Круглый стол «Здравоохранение и качество жизни как интегральный индикатор траектории развития государства и общества», организованный Институтом социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) в сотрудничестве с Институтом экономики РАН (ИЭ РАН) (модераторы: д.э.н., зам. директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе О. А. Александрова; д.э.н., руководитель Центра экономической теории социального сектора ИЭ РАН Т. В. Чубарова).
Во вступительном слове О. А. Александрова отметила, что стремительный научно-технический прогресс, идеи гуманизации, казалось бы, должны содействовать расширению доступа граждан к благам цивилизации, включая передовую медицину. Однако верх берет неолиберальный подход к социальной сфере как к сервису, а не как к зоне ответственности государства, с редуцированием роли профессионалов и наступлением коммерческих и администраторских интересов на область человеческого, гуманитарного. Продолжившая вступительное сло- во Т. В. Чубарова обратила внимание на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции сделала вопросы, касающиеся здравоохранения и связанного с доступностью медицинской помощи качества жизни, наиболее актуальными в повестке дня во всем мире, и потому очень важно услышать разные мнения и подходы к тому, как решать возникающие проблемы.
Первый докладчик, д.м.н., проф., президент Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников А. А. Редько, говоря о проблемах российского здравоохранения, обратил внимание на то, что на фоне развития медицинской науки показатели ухудшаются: смертность от управляемых причин растет, удовлетворенность медицинской помощью сокращается; количество стационаров стало таким же как 100 лет назад. Имея во времена СССР самую сильную в мире противоэпидемическую службу, сегодня Россия не может справиться с разновидностью вирусной инфекции, а смертность от нее среди медицинских работников в Санкт-Петербурге — в два раза хуже, чем в Москве, в столице — в пять раз хуже, чем в целом по России, а в России — в два раза хуже, чем, например, в Нью-Йорке. Корень проблем — в организации работы системы здравоохранения. В то время как «система Семашко» была воспринята другими странами, Россия от нее ушла, притом, что раньше в рейтинге эффективности систем здравоохранения страна занимала первые места в мире, а сейчас — последнее место в рейтинге стран с населением более 5 млн человек. В России не только необоснованно внедрили страховую медицину, но еще и поставили между бюдже- том и медицинскими учреждениями двух посредников — Фонд обязательного медицинского страхования и страховые компании, в результате по финансированию здравоохранения в долях от ВВП Россия находится на 64 месте в мире. Другая проблема связана с тем, что все крупные решения принимают не специалисты, а чиновники. Например, в Петербурге лучший специалист по инфекционным болезням в начале пандемии COVID-19 увольняется, а на руководство городским штабом по борьбе с инфекцией ставят кардиолога; чиновники Роспотребнадзора предписывают считать инфекционными не приспособленные для этих целей больницы, вследствие чего смертность в них оказывается в 16 раз выше, чем вне стационаров; в то же время из-за ограничения доступа к медицинской помощи смертность от неинфекционных заболеваний в Санкт-Петербурге выросла в 3,5 раза. Необходимо, чтобы решения, от которых зависит жизнь и здоровье граждан, принимались только после обсуждения со специалистами. Кроме того, требуется вернуться к тем принципам медицины, когда во главе угла стоит не услуга и не количество денег, а помощь населению.
Выступившая с докладом на тему «Обеспечение доступности медицинских услуг в России: государственная и/или частная медицина?» д.э.н., руководитель Центра экономической теории социального сектора ИЭ РАН Т. В. Чубарова, выразив солидарность с тезисом о важности учета неангажированного экспертного мнения при принятии решений на государственном уровне, обратила внимание на то, что пандемия обострила вопросы доступности и справедливости. Доступность нередко определяется через барьеры: структурные — наличие медицинских организаций, врачей и так далее; финансовые — возможность оплатить медицинские услуги; культурные — наличие религиозных ограничений. В последнее время реже говорят о доступности, чаще — об охвате, который легче измерить: например, в России программа ОМС охватывает все население. Но означает ли это, что гражданин реально может получить гарантированную ему медицинскую помощь? В ИЭ РАН был разработан индекс доступности здравоохранения, и из включенных в него показателей только у двух динамика улучшается, остальные показатели свидетельствуют о сокращении доступности медицинской помощи в России. Это коррелирует с данными выборочного исследования Росстата, согласно которому в 2018 г. больше половины населения были не удовлетворены или не в полной мере удовлетворены медицинскими услугами, в частности, длительностью ожидания в очередях — и это на фоне разрекламированной ЕМИАС и электронной записи, а также отсутствием необходимого оборудования и лекарств, состоянием туалетов, внешним видом медицинских организаций — и это после реализации программы модернизации здравоохранения. В части финансирования важно отметить три момента: 1) хроническое недофинансирование; 2) рост частных расходов — более 40%, из них порядка 95% — непосредственно из карманов граждан, что является самой регрессионной и несправедливой формой оплаты; 3) опережающий рост доли платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг. Расходы на здравоохранение в России в долях от ВВП заметно меньше, чем в среднем по странам ОЭСР, при этом государственное финансирование составляет 57%, в то время как в среднем по ОЭСР — 71%, а в ряде развитых стран — более 80%. В результате 59% россиян сообщают о том, что оплата медицинских услуг потребует от них существенного ограничения расходов на другие цели. Справедливость означает, что каждый должен иметь возможность достичь своего потенциала здоровья. Сегодня в обществе есть ощущение несправедливости от того, что кто-то может получить более качественную медицинскую помощь, и нередко это определяется именно финансовым статусом. В то же время, согласно опросам, менее 15% россиян готовы платить более высокие нало- ги, чтобы здравоохранение стало лучше для всех, что связано с неверием в то, что деньги, направленные в общую кассу, будут распределены справедливо и дойдут до всех. Пандемия подчеркнула значение состояния системы здравоохранения: исследование в 60 странах показало зависимость между числом больничных коек и уровнем смертности, особенно, в первую волну пандемии. При этом согласно Global Health Security Index, в 2019 г. готовность к пандемии даже развитых стран составляла 51 балл из 100, Россия с 44 баллами заняла 63 место. Нам все время говорили, что система Н. А. Семашко, которая себя хорошо зарекомендовала в условиях инфекционных заболеваний, теперь не нужна. Но «оптимизация» систем здравоохранения показала: скупой платит дважды, и стоимость ошибок в здравоохранительной политике очень высока. Казалось, пандемия изменит отношение к здравоохранению. Однако пока нет признаков того, что нынешняя модель будет меняться: напротив, запланировано сокращение финансирования программы «Национальное здравоохранение», как сказано в пояснительной записке к проекту бюджета, в рамках оптимизации и в целях приоритизации других мероприятий. Но мы как эксперты должны продолжать исследовать систему здравоохранения и информировать общество и структуры государственного управления о тех проблемах, к которым такая политика может привести.
Доклад О. А. Комоловой, директора Центра программ MPA в здравоохранении Московского городского университета управления Правительства Москвы, был посвящен факторам, оказывающим существенное влияние на качество медицинской помощи. Сегодняшние проблемы здравоохранения — это низкая производительность труда, низкий уровень доверия в обществе, рост конкуренции, несоответствие ожиданиям пациентов. Реализуемое университетом обучение руководителей столичных учреждений здравоохранения направлено, в том числе, на формирование корпоративной культуры медицинской организации и, в частности, на развитие коммуникативных компетенций главных врачей и медицинского персонала. Как показывают исследования, только 2% медиков обладают одновременно и высоким профессионализмом, и хорошими коммуникативными навыками, еще 8% — высокие профессионалы, но не способны выстроить адекватную коммуникацию с пациентами. Например, замеры показали, что для правильного понимания ситуации необходимо выслушивать жалобы пациентов в течение 9–11 секунд, однако в среднем уже после первых 3-х секунд врачи прерывают пациентов. Это мешает развитию персонализированной медицины. В ходе проекта медперсонал одной из детских поликлиник Москвы обучался в школе медицинской коммуникации, а затем путем массового опроса пациентов оценивался сформировавшийся у них уровень лояльности врачам. Результаты у врачей, проходивших обучение, оказались заметно выше средних. Другое направление обучения представляет ряд подготовленных практиками оцифрованных мини-блоков по наиболее актуальным проблемам, с которыми сталкиваются медики (безопасность медицинской деятельности, оформление листка нетрудоспособности и др.), при этом программа первоначально тестирует имеющийся уровень знаний обучаемого в той или иной области. В ходе обучения руководителей медицинских организаций их объединяют в команды, и это развивает в них способность к взаимодействию, которую они затем перенесут в свои организации.
Выступление к.э.н., в.н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН, аналитика НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы (НИИ ОЗММ ДЗМ) Н. В. Аликперовой было посвящено проблемам мотивации столичных медиков. За год до пандемии было проведено анкетирование 550 врачей и медицинских сестер в шести медицинских организациях города, которое показало, что порядка 40% медиков не считают материальное вознаграждение за своей труд справедливым и полагают, что акцент надо делать не на стимулирующих надбавках, а на повышении размера фиксированной части зарплаты. Отвечая на вопрос, какие стороны работы затрудняют ее качественное выполнение, врачи в больницах, прежде всего, отмечали недостаточную обеспеченность современным оборудованием; врачи в поликлиниках — завышенные нормы обслуживания пациентов и психологический дискомфорт при работе с ними. Еще одна серьезная проблема, о которой сигнализируют врачи,— зарегламентированность работы и чрезмерная загруженность документацией. Медицинские сестры, в целом, реже, нежели врачи, указывали на затрудняющие их работу факторы, но если отмечали, то те же проблемы, что и врачи. Важной характеристикой мотивации является причина, удерживающая работника в организации: для врачей это, прежде всего, стабильность оплаты труда и рабочего места; для молодых специалистов — еще и возможность накопить профессиональный опыт, осуществить профессиональный рост; для врачей со стажем, особенно, работающих в поликлиниках— близость к дому, отношения в коллективе. Лояльность медицинских сестер имеет, в целом, те же основания; медсестры, занятые в поликлиниках, особый акцент делают на хороших отношениях в коллективе. Для оценки уровня мотивации медперсонала была разработана мотивационная карта, включающая набор характеристик рабочего места, которые медицинский работник оценивает, с одной стороны, по степени важности, а с другой стороны — по наличию в данной организации. Такой инструмент позволяет своевременно диагностировать профессиональное выгорание, ухудшение психологического климата, а также снижать текучесть кадров, содействовать адаптации новых работников.
Доклад А. В. Новгородовой, к.э.н., директора Фонда сохранения и развития на- учного, литературного наследия академика Ф. Г. Углова был посвящен страховому аспекту профилактики неинфекционных заболеваний. В действующей в России страховой модели здравоохранения полностью отсутствует риск-менеджмент, который есть в большинстве развитых стран с хорошим здравоохранением, где страховые принципы служат формированию здорового образа жизни и здоровьесбе-режению населения. В ноябре 2020 г. была принята новая редакция закона об ОМС, в котором не оказалось имевшегося ранее положения о том, что медицинская организация, осуществляющая свою деятельность в рамках ОМС, не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Это явно расходится с декларациями о необходимости улучшения демографических показателей. Другой пример из этого ряда — отмена обязательной диспансеризации в школах, притом, что по данным Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей у каждого 12-го ребенка имеется патология желудочно-кишечного тракта, у каждого четвертого — миопия, у каждого шестого — ортопедические проблемы; в северо-западных регионах страны стойкое первое место занимают болезни органов дыхания; все больше выходит в лидеры детская онкология. При этом в зарубежных странах, например, в Японии, есть прекрасные примеры риск-менеджмента: при наличии риска возникновения той или иной болезни все меры направляются на ее превенцию, потому что значительно проще применять профилактические меры, чем лечить, особенно запущенные формы. Необходимо вернуть обязательную диспансеризацию для детей, а далее вернуться к обязательной диспансеризации взрослого населения. В нынешних условиях можно на базе центров здоровья выдавать гражданам паспорта здоровья, в которых, в соответствии с полом и возрастом, прописывались бы те стандартизированные про- цедуры, которые необходимо проходить, и за выполнение которых человек нес бы ответственность, и должно быть поощрение людей, которые ведут здоровый образ жизни.
Выступившая далее С. В. Щепеткина, к.вет.н., руководитель Научно-консультативного центра по разработке и трансферу системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины обратила внимание на продовольственную безопасность, оказывающую чрезвычайно важное влияние на здоровье людей. Сегодня в рамках «регуляторной гильотины» отменяется колоссальное количество законодательных актов, в том числе четыре тома ветеринарного законодательства, в результате не оказывается даже номенклатуры специальностей, позволяющей понимать, кто может считаться работником в области ветеринарии. Серьезный удар по отрасли нанесло упразднение Российской академии сельскохозяйственных наук, в результате чего ветеринария в одном ряду с агрономией и другими превратилась в одно из 13 отделений РАН, а все НИИ, за исключением двух, были переподчинены Минобрнауки, притом, что все вузы подведомственны Минсельхозу. Это привело к катастрофическому разрыву между производством, наукой и образованием и неадекватной регуляторике: разработчики лекарственных препаратов сами оценивают их опасность для жизни людей и животных, сами принимают решения об испытаниях, сами предоставляют регистрационное досье. Департамент ветеринарии Россельхознадзора концентрируется исключительно на поиске нарушений, но задача ветеринарных врачей в другом — не допустить возникновения заболеваний, распространения той же резистентности к антибиотикам. В Доктрине продовольственной безопасности России написаны правильные вещи, но они не выполняются. По идее, в первую очередь необходимо беспокоиться о качестве и безопасности продукции, а уже потом — об эконо- мической эффективности. Но задача ликвидации «ножек Буша» на нашем рынке решалась через наращивание объемов— о безопасности и качестве речь не шла. Сегодня размер средней птицефабрики — 5 млн цыплят-бройлеров, нигде в мире нет таких объемов. Резистентность к антибиотикам — глобальная проблема: нечем лечить людей, осложняется бактериальная микрофлора. Необходимо создать в Минздраве должность главного внештатного сотрудника по ветеринарной медицине, который сможет дать объективное представление о влияющей на здоровье людей ситуации в сельском хозяйстве, сегодня это сальмонеллезы, листериозы, кампилобактериозы, антимикробная резистентность, огромное количество остаточных фармакологически активных веществ в продуктах питания. В то же время, в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской областях, Краснодарском крае появились крупные предприятия — производители безопасного и качественного мяса птицы, которыми руководят кандидаты ветеринарных наук. Сегодня еще нет безопасного молока, свинины, но это можно сделать, если понять, что ситуация в сельском хозяйстве имеет прямое отношение к здоровью людей и, кроме того, заставить чиновников прислушиваться к мнению экспертов.
Доклад Н. С. Григорьевой, д.полит.н., профессора кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова был посвящен влияющей на ситуацию в здравоохранении проблеме имитации. Научная и медицинская общественность не может донести свои идеи, притом, что они обоснованы и могут лечь в основу правильных политических решений. Во многом это связано с разобщенностью: например, когда несколько лет назад были митинги против реформы здравоохранения, то, как только медикам дали сколько-то денег, движение пошло на убыль. Но есть и проблема выработки единой позиции. В музыке под имитацией понимается полифонический прием, когда после из- ложения темы в одном голосе, она повторяется в других голосах. Так и с реформой здравоохранения: звучит множество голосов, по-разному понимающих реформу, и непосвященному очень трудно понять, где тот голос, к которому нужно прислушаться. Типичный пример имитации— пресловутое обязательное медицинское страхование, показавшее свою беспомощность в условиях пандемии. В 1991 г. переход России к страховой модели по образцу большинства западных стран рассматривался как панацея; не многим отличалась ситуация и в 2010 г., когда принимался соответствующий закон. И лишь недавно зазвучали голоса, в том числе, первого директора Фонда обязательного медицинского страхования, что это было непродуманное (!) решение. Говорится, что это был социальный регресс — что вполне справедливо с учетом того вклада, который Россия внесла в мировое развитие здравоохранения как системы. Типичная классическая схема, отработанная многовековым развитием медицинского страхования: в центре — некоммерческие страховые организации, которые проводят тендер на медицинские услуги, в нем участвуют медицинские учреждения, все они имеют аккредитацию, являются полноправными игроками на рынке, далее они заключают договоры на определенные виды медицинских услуг, предлагают эти услуги потребителю. Ничего этого у нас не было, в результате в здравоохранении возникли серьезнейшие проблемы, требующие постоянной коррекции. Перманентно вносятся какие-то частные изменения, дополнения, их количество начинает переходить в качество, возникает имитация единого законодательного акта. Но если базовая модель не работает, то любые усилия в налаживании ее работы приводят к возникновению нового витка трудностей, которые приходится постоянно преодолевать. Это не означает, что страховая модель в принципе плоха, но погруженная в определенные социально-экономические и культурные условия, она работает далеко не так эффективно, как ожидалось. Нужна иная модель здравоохранения, но для ее реализации необходимо преодолеть разобщенность.
Выступление И. В. Соболевой, д.э.н., зав. Центром политики занятости и социально-трудовых отношений ИЭ РАН было посвящено сказывающейся на здоровье населения реакции сферы занятости на пандемию COVID-19. Проведенный Центром трудовых отношений НИУ-ВШЭ опрос 2000 человек показал, что каждый 10-й потерял работу, 9% — потеряли в рабочих часах, чуть больше — отправлены в вынужденные отпуска, у стольких же увеличилась трудовая нагрузка, и практически 40% потеряли в заработке, причем у половины из них потеря — более, чем на четверть; появились новые зоны безработицы, например, в Москве и Санкт-Петербурге, где всегда была сверхзанятость. Если учесть разнообразные моменты, то в апреле 2020 г. фактически без работы сидела четверть рабочей силы, в мае — пятая часть, в июне — каждый десятый. Однако данные по заработной плате изменились гораздо менее заметно, что объясняется очень большой теневой занятостью: резко сократилась зарплата в «конвертах», а также доходы самозанятых. Можно ожидать дальнейшей теневизации рынка труда, в том числе, за счет медиков, переходящих в самозанятые.
Выступившая следом А. В. Ярашева, д.э.н., профессор, профессор РАН, зав. лабораторией исследования поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН, ведущий аналитик НИИ ОЗММ ДЗМ остановилась на вопросах доступности программ переподготовки и повышения квалификации для врачей и среднего медперсонала. Опрос столичных медиков, проведенный в 2019 г., показал, что наибольший интерес к дополнительной профессиональной подготовке проявляют врачи из стационаров со стажем работы 6–20 лет; их коллеги с более длительным стажем не видят в ней необходимости; примечательно, что большое количество врачей, особенно, из поликлиник, затруднились с ответом. Аналогичная ситуация и у медицинских сестер: больше интерес у медсестер, работающих в стационарах, и заметная доля затруднившихся с ответом, особенно среди среднего медицинского персонала поликлиник. Трудности получения дополнительной квалификации связаны, прежде всего, с очень серьезной загруженностью на работе — многие признались, что работают на пределе физических возможностей, а также с нехваткой средств на оплату ставшего непрерывным обучения у медицинских организаций и самих медиков; часть респондентов говорила об отсутствии подходящих образовательных программ. Еще один пласт проблем связан с недостаточной доступностью и дороговизной используемых для обучения симуляторов, а также с тем, что более возрастным медикам сложнее осваивать цифровые технологии, необходимые для использования образовательных платформ. У молодых врачей наиболее востребованными оказываются сугубо медицинские знания, а также иностранный язык; интерес к освоению знаний в сфере IT чаще проявляют медики со стажем.
Доклад Ю. В. Бурдастовой, к.э.н., ст.н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН, аналитика НИИ ОЗММ ДЗМ был посвящен проблемам развития кадровых ресурсов здравоохранения. Среди трендов, увеличивающих нагрузку на системы здравоохранения, изменяющиеся эпидемиологические профили, а также рост неинфекционных заболеваний и хронических состояний, связанных со старением населения. В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает такие глобальные вызовы как недостаточные инвестиции в образование, подготовку и поддержку медицинских работников, дефицит медицинского персонала и его отток из профессии, низкое качество медицинской помощи. В частности, в совместном докладе ВОЗ и ОЭСР 2018 г. говорится о многочисленных неточностях в диагнозах, ошибках при назначении лекарств, небезопасных практиках и так далее. В основу подхода к подготовке, привлечению, удержанию медицинских кадров рекомендует- ся положить концепцию продолжительности трудовой деятельности, предусматривающей разработку системы мер для каждого периода профессионального становления. В рамках реализуемого в 2019– 2020 гг. под эгидой НИИ ОЗММ ДЗМ проекта, посвященного развитию кадров столичного здравоохранения, изучалась система наставничества. И эксперты, и медицинские работники, участвовавшие в анкетном опросе, говорили о значении этого института и необходимости повышения эффективности его работы. Столичные медучреждения используют такие показатели эффективности наставничества, как снижение текучести кадров, рост лояльности персонала, короткие сроки адаптации новых работников, минимальное количество ошибок при выполнении должностных обязанностей, положительные отзывы пациентов другие. Совершенствуя работу медиков, нельзя забывать о тех внешних факторах, которые могут ухудшать здоровье населения и создавать напряжение в системе здравоохранения. Например, в 2019 г. в России был отменен ряд экологических нормативов, что позволяет увеличить норму выбросов, а в 2020 г. порядка трети связанных со строительством ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований стали рекомендательными, в ближайшее время это произойдет с еще тремя тысячами норм. Это значит, что снизится качество строительных материалов, вырастет плотность и высотность застройки, ухудшится инсоляция помещений. Реализуемая в Москве программа реновации плохо согласована с планами развития социальной инфраструктуры, что чревато все большим снижением доступности медицинской помощи.
Тема выступления Ю. С. Ненаховой, н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН, аналитика НИИ ОЗММ ДЗМ была обозначена как «Кадровое обеспечение здравоохранения на пути к ноономике». Кадры в здравоохранении играют совершенно особую роль, что связано с знаниеемкостью отрасли, скоростью появления новой медицин- ской техники и технологий, особой мотивацией медицинских работников. В то же время, согласно исследованию Росстата 2019 г., почти половина домохозяйств указала на невнимательное отношение медперсонала и его недостаточно высокую квалификацию. Как показывают данные наших исследований 2019–2020 гг., на ситуацию с кадрами влияет ряд факторов. С одной стороны, налицо рост нагрузки на численно сокращенный медперсонал (следствие «оптимизации» и выполнения «майских указов»), негативное восприятие медицинскими сестрами создания в поликлиниках сестринских постов; с другой стороны, активно внедряется система непрерывного образования; задача привлечения молодых специалистов побудила возродить наставничество; принимаются профессиональные стандарты и так далее. В то же время, исследование, проведенное в 2020 г. под эгидой НИИ ОЗММ ДЗМ, говорит о том, что медицинские работники ожидают исключительно дальнейшего роста нагрузки, в том числе, в рамках планируемого расширения функций медицинских сестер. Притом, что медицинские сестры, в принципе, относятся к самой идее с воодушевлением, значительная часть указывает на то, что ее реализации серьезно препятствует нынешний чрезмерный объем медицинской и «бумажной» работы; кроме того, многие не верят в то, что расширение функций будет сопровождаться адекватным ростом денежного вознаграждения. В этой ситуации более половины респондентов не связывают с новой реформой надежд на улучшение качества медицинской помощи как в целом, так и в рамках ее отдельных составляющих (время ожидания приема и т.д.). Такая же доля респондентов не верит в рост профессионального престижа медицинских сестер и их социального статуса. Такие установки продиктованы рефлексией опыта предыдущих реформ, в результате которых медицинским сестрам приходится не только выполнять свои должностные обязанности, но еще и работать за недостающий мед- персонал. Кроме того, медики опасаются, что механическое, без учета специализации внедрение должности «универсальная клиническая медицинская сестра», может отрицательно сказаться на качестве медицинской помощи.
В завершении круглого стола с кратким словом выступила д.э.н., зам. директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН О. А. Александрова, которая, сославшись на свой доклад «Кризис российского здравоохранения: «эксцесс исполнителей» или запрограммированный результат?», прозвучавший на пленарном заседании Конгресса, подчеркнула, что комплексный и беспристрастный анализ того, что происходило со здравоохранением в течение последних тридцати лет, приводит к выводу о том, что его нынешнее плачевное состояние далеко не случайно. Медицинское и академическое сообщество своевременно предупреждало о пагубных последствиях проводившихся реформ, но не было услышано государством — в отличие от рекомендаций Всемирного банка и российских проводников его идей. Пандемия должна привести структуры государственного управления к осознанию случившегося, в этом случае знания экспертов, в том числе, участников данного круглого стола, наконец, будут востребованы.